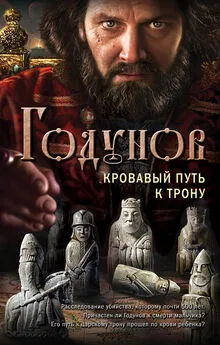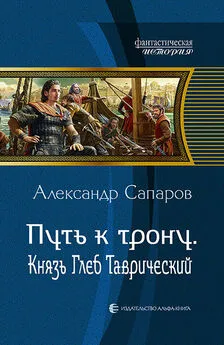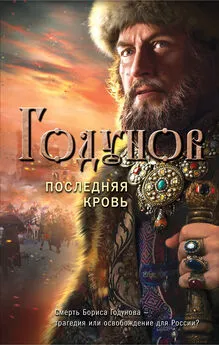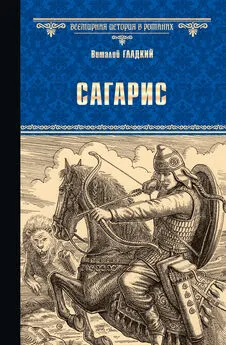Александр Бубенников - Годунов. Кровавый путь к трону
- Название:Годунов. Кровавый путь к трону
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 1 редакция (3)
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-096884-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Бубенников - Годунов. Кровавый путь к трону краткое содержание
Годунов. Кровавый путь к трону - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Когда я своим юным перовским и можайским друзьям-стихотворцам зачитывал наизусть стихотворение Бальмонта «Предание» с просьбой вспомнить свой личный опыт или достоверный опыт знакомых-родственников визуализации на небе «двух лун» и «двух солнц» на небосклоне, то часто натыкался на откровенную иронию относительно качества стихотворчества классика Серебряного века, мол, нельзя писать «с свирепостью», «переселя», «озверены», «скиталися». Разумеется, тут же доставалось другому юному классику, Лермонтову, с его: «и звезда с звездою говорит». Это все строчки стихов с «косточкой» на языке… Ну и, конечно, «солнцу» поэзии, «нашему все» Пушкину, парадоксальному классику двоемыслия глагола и существительного в сакраментальной строчке «души прекрасные порывы»…
А у меня к Бальмонту, пошедшему по проторенному пути Карамзина и Пушкина, с его драмой «Борис Годунов», были не стилистические претензии, а сугубо исторические, фактологические, выставленные на обозрение в его заключительном четверостишьи «Предания»: «Среди людей блуждали смерть и злоба, узрев комету, дрогнула земля. И в эти дни Димитрий встал из гроба, в Отрепьева свой дух переселя». Можно было, конечно, заменить слово «переселя» на «переселив» и подобрать новую рифму по смыслу, но невозможно было согласиться с тем, что самозванец Лжедмитрий I – это Юшка Отрепьев. Реально Отрепьев был намного старше якобы «вставшего из гроба» зарезавшегося царевича Дмитрия и бородавчатого самозванца «названного Дмитрия». К тому же отправленный Годуновым в ссылку Федор Романов, подаривший полякам-иезуитам и канцлеру Сапеге идею самозванца, «царевича Дмитрия», вернувшись в Москву из ссылки и увидев, кто сидит на московском троне, понял подмену поляков и вовремя сориентировался: «Это не Отрепьев», но этот «царь, названный Дмитрий» за высказанную и умело осуществленную идею первого русского самозванства Федором Никитичем просто обязан пожаловать рядовому монаху Романову высочайший митрополичий сан.
До лета 1960 года события 1248 г., с нашествием 30-тысячного литовского войска на «свои» земли племени голядь в верховьях Протвы, битвой с московскими воинами Хоробрита, гибелью там 19-летнего великого князя, и события закладки Годуновым Царева-Борисова городка на Протве, начала Смуты сразу же после природного катаклизма «малого ледникового периода» с видениями на небе дублей светил, не были в моем сознании взаимосвязанными. Но именно в том году эти разрозненные события с легендарными преданиями о «двух солнцах» и «двух лунах» соединились у меня недостающей исторический сцепкой для решения обжигающей загадки русской истории: появления града Голяда, предшественника Можая-Можайска, хождения здесь апостола Андрея и, разумеется, связь с Голядом-Можаем Годунова: ведь Борис Федорович вряд ли стал подчищать и жестоко искажать русскую историю, как его противники Романовы, поскольку в незамутненной русской истории (с Голядом-Можаем, апостолом Андреем, мистической связью с сыном Хоробрита Борисом красивейшего места его резиденции Царева-Борисова) Годунов находил недостающую ему твердую историческую опору в «природном царстве» избранного царя.
Подростком-футболистом со своей футбольной командой на велосипедах я поехал на матч с одним пионерским лагерем в Борисово, рядом с Протвой. Мы несколько лет подряд играли с этим лагерем принципиальные матчи. За пионеров лагеря всегда играли трое вожатых, студентов МГУ с исторического и географического факультетов. Одного из них я хорошо знал по своей перовской школе, с этим старшеклассником-очкариком мы даже неоднократно участвовали во многих легкоатлетических городских и областных соревнованиях по прыжкам в высоту и длину. В том 1960 году прыгучий однокашник-очкарик, игравший за пионеров на позиции голкипера, познакомил меня поближе со своими друзьями, вожатыми-студентами и сразу предложил, что, независимо от исхода матча, после его завершения мы поедем на велосипедах на Протву – искупаемся и поговорим на интересующие меня историко-географические темы эпохи Годунова, с мистическим явлением дублирующих друг друга дневных и ночных светил.
Занятый разгадкой жгучей исторической тайны земли Можайской, града Голяда, как предшественника Можая-Можайска, я машинально вспомнил перед матчем, что когда-то уже спрашивал своего старшего школьного знакомого очкарика-легкоатлета (среди прочих перовских друзей и знакомых) о личном непосредственном опыте визуализации в небе в любое время года «двух солнц» и «двух лун».
Это было настоящее везение юного исследователя, я интуитивно чувствовал, что после матча и вечернего купания в Протве получу новую пищу для своих исторических поисков и историко-поэтических опытов. Такое же чувство азарта и исследовательского везения «юного следопыта» я ощутил ранее, за несколько лет до того футбольного матча в Борисове, когда обнаружил нечто потрясающе интересное в чулане родного можайского бабушкиного дома на Коммунистической улице. Это был исторический труд основателя и первого директора можайского краеведческого музея Николая Ивановича Власьева (1887–1938) «Можайск в его прошлом» в серой книженции с выцветшими страницами («Можайский уезд Московской области», московское издательство «Красный пахарь», 1925 г.), которую деятельный энергичный краевед подарил моей бабушке Анастасии Николаевне, заинтересовавшись судьбой ее деда, историка и поэта П. П. Филимонова, которому помещик-крепостник дал вольную задолго до отмены крепостного права, видя стремление абсолютно неграмотного юноши к получению образования и творческую жилку поэта, художника, историка. И получивший вольную мой прапрадед к двадцати с гаком годам обучился грамоте, продолжил образование, начал свою историческую, литературную, общественную стезю и так далее.
Краевед Власьев брал у бабушки все рукописи ее деда и фотографии Филимонова с его коллегами и друзьями из Суриковского кружка вместе со знаменитыми писателями и художниками конца XIX и начала XX века, интересовался его исследованиями по истории Можайска, его датировке, и древних «разбойничьих» и прочих кладов на земле Можайской… А в чулане нашего можайского дома в допотопном «доисторическом» сундуке, принадлежащем моему прапрадеду, мне досталось множество дореволюционных книг, включая польские, с историческими контурными и цветными картами, и куча потрепанных летописных страниц из томов «Ипатьевской летописи» без корешков, по всей вероятности, одного из первых изданий ПСРЛ под редакцией А. А. Шахматова. Потом я узнал, что польские книги были вывезены из Польши и принадлежали матери моего деда Василия Тимофеевича, моей православной прабабке Марии Васильевне (хорошо знавшей польский язык, с польскими и белорусскими родовыми корнями).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: