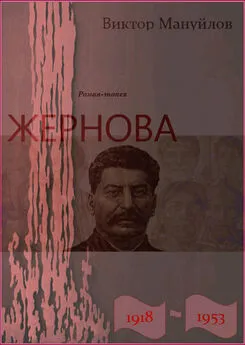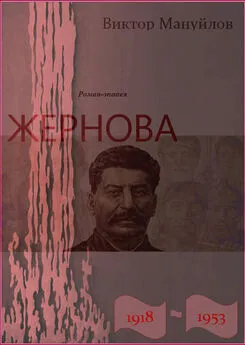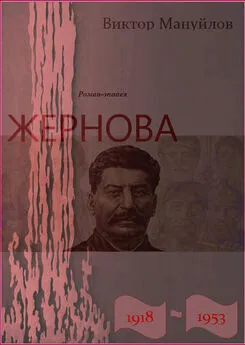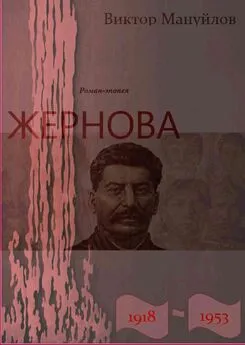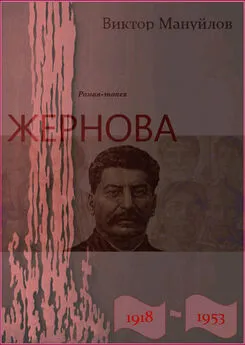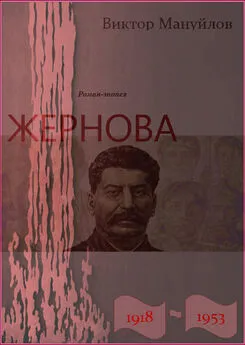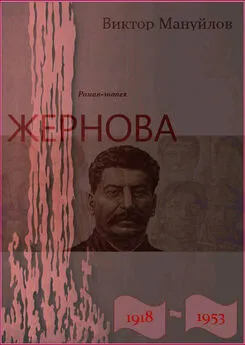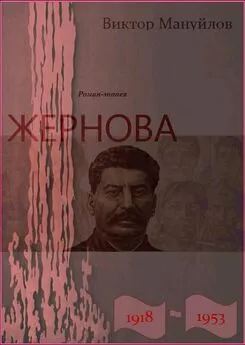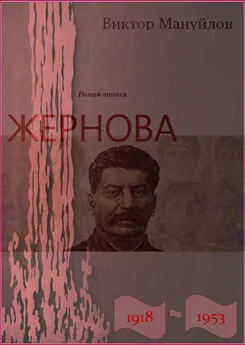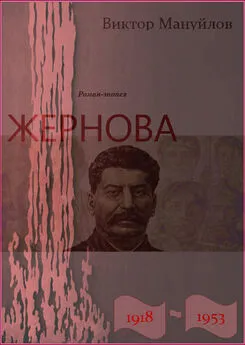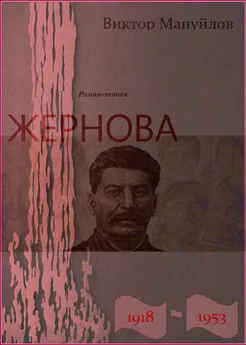Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953. После урагана
- Название:Жернова. 1918–1953. После урагана
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953. После урагана краткое содержание
Жернова. 1918–1953. После урагана - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Впрочем, сам Алексей Петрович не видел в этом никакого противоречия, полагая, что инженер или генерал должны проповедовать активную жизненную позицию в соответствии со своим мировоззрением и профессией, стараясь оказывать влияние на события именно в рамках своей профессии путем ее усовершенствования, но никак не писатель, художник или композитор — деятели искусства, одним словом, для которых активная жизненная позиция не имеет четко очерченных границ, есть служение музам, которое, как известно, не терпит суеты, то есть не разменивается по мелочам, воздействует на душу, но не на выбор той или иной догмы.
И, надо сказать, в одной из своих повестей, так и не увидевших света, Алексей Петрович попытался было создать образ человека-созерцателя, человека-бога, который все видит, все понимает, однако ни во что земное не вмешивается, но запутался в обосновании позиции своего героя — и повесть так и не дописал. И это был не выдуманный герой, не взятый с потолка, а вполне реальный, потому что своим писательским инстинктом Алексей Петрович видел этого героя буквально во всех слоях общества, чувствовал, как этот человеческий тип становится все более распространенным, но в то же самое время все более мельчающим, теряющим что-то важное в себе, какой-то стержень, духовную связь как с прошлым, так и с будущим. В минуты просветления Алексей Петрович вполне сознавал, почему это происходит, хотя и не представлял, как это отзовется на будущем страны и русского народа, но именно такие минуты и становились убийственными для его творчества: подступала тоска, уныние, отвращение к бумаге и самому себе. Подобное состояние в последние два-три года длилось не часами, а днями и неделями, наваливалось быстро и неожиданно, а отпускало медленно и неохотно.
Как раз в таком состоянии — в состоянии творческой прострации — Алексей Петрович и пребывал в последнее время. А тут еще история с дневниками генерала Угланова, возвращение в Москву, где, несмотря ни на что, работают другие писатели, предполагаемое членство в комиссии или комитете по созданию художественной летописи войны, из чего должно следовать что-то еще и еще. Он не знал, как это все отзовется на нем, хотя, не исключено, должны вывести его из состояния прострации и вернуть к творчеству.
Однако приглашение в «часовую мастерскую» и все, что этому предшествовало, на что он обратил внимание только сейчас, посеяло в душе Алексея Петровича такой страх, что он уже не был рад ни Москве, ни членству в комиссии. Он вспомнил разговоры об этом заведении, намеки на то, как здесь обращаются с людьми, что люди, однажды попав сюда, уже не возвращаются, а если и возвращаются, то сломленными, с каиновой печатью на лице и в душе, и голос «любезного человека», как окрестил Ивана Аркадьевича Задонов, уже не только не успокаивал, а начал вызывать какие-то смутные и мучительные ассоциации.
Беспомощно и затравленно оглядывая комнату, Алексей Петрович почему-то попытался представить здесь Константина Симонова или Михаила Шолохова, — как они сидят, разговаривают, пьют чай из этих же чашек и о чем думают, — попытался представить и не смог. И хотя себя он считал талантом ничуть не меньшим, продолжая верить, что еще создаст нечто потрясающее и поднимется даже выше, но это в будущем, а в настоящем… в настоящем — вот он, Алексей Задонов, вот Иван Аркадьевич, и никуда от этого не деться…
Алексей Петрович пил обжигающе горячий чай, ел бутерброды, но вкуса не чувствовал, как не чувствовал, голоден он или уже сыт. Он все делал механически, почти в полном отупении, и в то же время часть его сознания бодрствовала: в ней, в этой части, то всплывали отрывочные мысли, то отмечались всякие мелочи. Это бодрствовала его писательская сущность, и если бы Алексея Петровича потянули сейчас на виселицу, он бы и в этом случае отмечал всякие мелочи и связанные с ними свои душевные переживания в расчете, что когда-нибудь это пригодится ему в его новом произведении.
Алексей Петрович, вопреки совету Горького, никогда не записывал отмеченные им там и сям детали и ощущения про запас, полагая, что глупо, приступая к новой повести или роману, рыться в этих записях и примерять, что сгодится сейчас, а что оставить на потом. Эти мимолетные детали и ощущения сидели в нем крепче всяких записей и извлекались из памяти каждый раз в самую нужную минуту.
При этом Алексей Петрович мог вполне определенно сказать, с чем эти детали или ощущения были связаны, мог описать обстановку, людей, кто и что говорил, хотя ни имен, ни фамилий не помнил и много еще не помнил такого, что было бы важно, скажем, для следователя, но совершенно не важно для писателя, который из деталей и ощущений сам может создать жизненный эпизод и включить его в логическую, психологическую и какую угодно другую цепь эпизодов, составляющих событие-сюжет.
Вот и сейчас, мучаясь неизвестностью и несправедливостью по отношению к своей персоне, сознавая полное отсутствие способности к сопротивлению, все более тупея от неизбежности и запланированности происходящего, он все-таки вместе с тем отмечал, что комната обставлена не как кабинет, а как жилая: кожаный диван с резной спинкой и длинным, узким зеркалом на ней, буфет с недорогой посудой, занавески на окнах, венские стулья числом четыре, натюрморт — и весьма приличный, даже не копия, а оригинал, — обои в цветочек, салфеточки… — все это ему что-то напоминало, где-то он подобное уже видел, и тот факт, что он не может вспомнить, где и когда, угнетало Алексея Петровича ужасно.
По своему обыкновению Алексей Петрович рад был уйти от реальности, уйти в какие угодно воспоминания, ассоциации, лишь бы не думать, не думать, не думать, но реальность настойчиво стучалась в его сознание ласковым голосом «любезного человека», который — явно для создания этакой душевной близости — рассказал пару анекдотов, очень забавных, и рассказал их мастерски, будто и не пытаясь насмешить, но Алексей Петрович, несмотря на свою скованность и панический страх, смеялся заразительно и отмечал при этом, что смеется именно заразительно, хотя ему совсем было не до смеха.
Когда Алексей Петрович допивал третью чашку чая, в его настроении наступил некоторый перелом: ему начало казаться, что его посещение этого странного заведения так и закончится чаепитием и анекдотами, и он начал поддакивать Ивану Аркадьевичу, сам бросал какие-то реплики и изо всех сил старался попасть в тон и показать, что он воробей стреляный и его на мякине не проведешь.
Он помнил, как в той, далекой уже квартире, где остались Маша и Варвара Михайловна, он сидел дома один, потому что женщины ушли на рынок или еще куда-то, что-то писал, в дверь позвонили, он открыл, вошли четверо, один из них предъявил удостоверение, в котором Алексей Петрович от ужаса, объявшего все его существо, ничего не разглядел… помнил, как они заполнили собой всю их маленькую квартирку, и старший сразу же заговорил о рукописях генерала Угланова, заговорил тоном оскорбительным, наглым, когда не знаешь, что отвечать и как себя вести. Алексей Петрович растерялся, заюлил, чувствуя, что должен что-то сделать, чтобы отвести угрозу от себя, от Маши, от Варвары Михайловны, от генерала Матова. Но главное все-таки — от себя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: