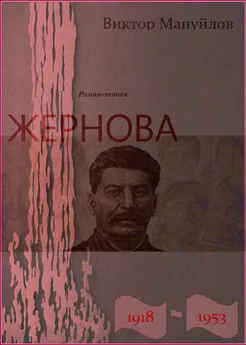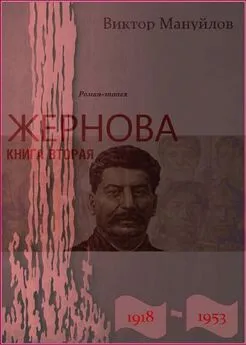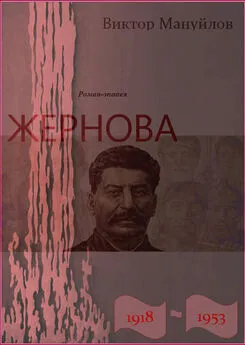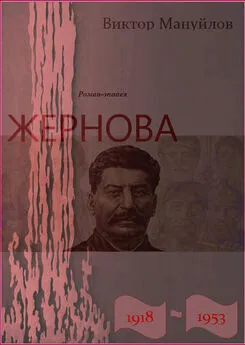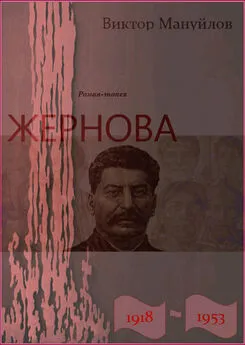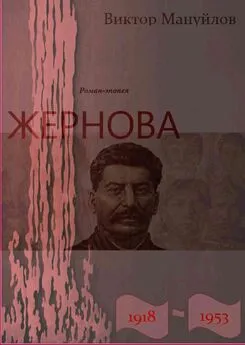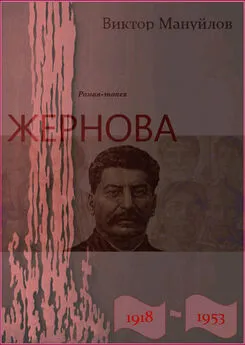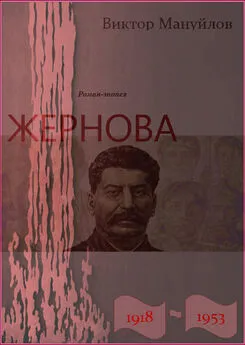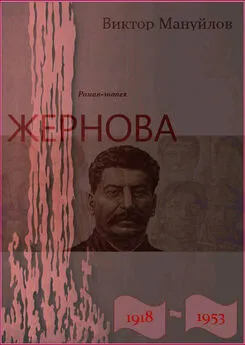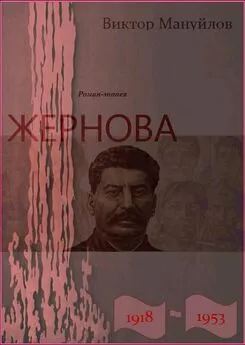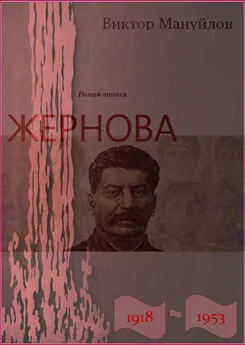Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953. Книга третья. Двойная жизнь
- Название:Жернова. 1918–1953. Книга третья. Двойная жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953. Книга третья. Двойная жизнь краткое содержание
Жернова. 1918–1953. Книга третья. Двойная жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Человек поднял голову и стал похож на грифа, виденного Василием в зоопарке, и так же, как гриф, посмотрел внимательно и безразлично на Василия через круглые очки пронзительными черными глазами, поморщился, кивнул лысиной и бараньим воротником, разрешил:
— Входи.
Василию дважды приходилось бывать у декана Кремера, но порог комнаты напротив он переступал впервые. Да и, вообще говоря, он побаивался таких комнат и их обитателей: в нем еще не выветрилась память о секретаре лужевской партячейки Касьяне Довбне, и хотя за последние годы он повидал всяких партийных работников, — и даже хороших, — в нем крепко держалось убеждение, что за различными личинами больших или маленьких партийных организаторов и секретарей скрывается большой или маленький Довбня, то есть человек себе на уме, говорящий не то, что думает, делающий совсем не то, что ему положено делать, и одним только своим положением настроенный против Васьки Мануйлова.
Василий приблизился к столу по длинной малиновой ковровой дорожке и остановился, не дойдя до стола двух шагов.
Очкарик смотрел на него ждущими глазами, вытянув тонкую шею грифа с острым кадыком, торчащую из белого воротника рубахи, под которой, казалось, тело отсутствовало напрочь, так что пиджак держался непонятно на чем, тем более что руки Соломон Маркович почему-то прятал под столом.
Но вот он дернулся, извлек из-под стола одну руку, протянул ее к Василию и резко щелкнул длинными тонкими пальцами.
Жест этот ничего отупевшему Василию не сказал, и он лишь подвинулся к столу еще на шаг.
— Зачетку и хабфаковский билет! — прозвучал требовательный нетерпеливый голос из узкой щели между тонкими губами.
Василий торопливо полез во внутренний карман пиджака, достал оттуда зачетку из серого картона, из нагрудного кармана — картонную же книжицу поменьше и положил их на стол.
Соломон Маркович извлек из-под стола и вторую руку, быстро просмотрел зачетку, сложил вместе с билетом и, постукивая твердыми корешками по столу, заговорил все так же нетерпеливо и почти не раскрывая рта:
— С этого дня пхиказом декана хабфака ви отстханяетесь от лекций и исключаетесь из числа хабфаковцев.
— Поч-чему? — с трудом выдавил из себя Василий, хотя внутренне был готов именно к такому повороту дела.
Собственно говоря, он только сейчас отчетливо понял, что в нем все время жила эта готовность и никогда не было твердой уверенности, что все закончится благополучно. И все-таки безжалостные слова, произнесенные бестелесым очкариком, ошеломили Василия настолько, что все перед ним как бы затянуло пеленой тумана.
— А потому, что ви оказались не тем человеком, — чеканил под равномерный картонный стук Соломон Маркович, — за котохого себя видаете. А таким пехевехтышам не место схеди пехедовой советской технической интеллихенции. Вам все ясно?
— Я буду жаловаться, — хрипло произнес Василий, сам не веря в свои слова.
— Жаловаться? Сколько уходно. Только это вам вхяд ли поможет. Так-то вот. Можете бить свободни. Не задехживаю. — И сделал выталкивающий жест рукой, откидываясь на спинку стула.
Туман исчез, и Василий отчетливо увидел черные глаза Соломона Марковича, увеличенные очками, а в них столько удовольствия от проявленной власти над ним, над Василием, что отупение вдруг спало с него, возникла потребность в каком-нибудь действии. Он увидел свою зачетку и билет в руках очкарика, ему показалось, что если эти книжицы вернутся к нему, то он еще сможет кому-то что-то доказать.
Василий рванулся к столу, поймал порхающую тонкую немощную руку, сжал ее за кисть с такой силой, что послышался хруст пальцев, увидел, как черные глаза, потеряв пронзительность, расширились от боли, изумления и страха, схватил выпавшие из пальцев книжицы, повернулся и быстро пошел вон. В дверях остановился и выкрикнул с отчаянием и злостью:
— Я буду на вас жаловаться! Вы не имеете права!..
— Да как ты смеешь… — услыхал он визгливый голос и с такой силой захлопнул за собой дверь, что Утка подскочила в испуге на своем стуле и взвизгнула каретка "Ундервуда".
Все еще не придя в себя от бешенства и отчаяния, Василий ворвался в аудиторию. Ни слова не говоря, под недоуменные взгляды товарищей и преподавателя, прошел к своему столу, схватил пальто и чемоданчик и вышел вон.
Он почти бежал по коридору, на ходу засовывая руки в рукава пальто, потом, перепрыгивая через три ступеньки, по широкой лестнице вниз, чуть не столкнулся на повороте с деканом Кремером, тот окликнул его, но Василий не остановился и даже не обернулся…
Вахтер, тяжелая парадная дверь, ступени подъезда, улица…
Кремер развел руками, покачал головой. Всего полчаса назад у него вышел крупный разговор с парторгом факультета Соломоном Марковичем Веснянским. И все из-за этого Мануйлова. Впрочем, еще из-за четверых рабфаковцев тоже, на которых пришло так называемое "отношение" по линии ГПУ, предписывающее исключение "ниже поименованных лиц" с рабфака по причине "социального несоответствия".
Мануйлова и еще одного рабфаковца по фамилии Кизимов, татарина из-под Казани, сына не то бая, не то еще бог знает кого, Кремеру исключать было особенно жаль: оба учились прекрасно и подавали большие надежды. Но что он, декан факультета, мог поделать? Не конфликтовать же с могущественным ОГПУ. Тем более что у него, получившего образование в Германии, у самого положение не слишком-то твердое. Единственное, что он смог сделать — это отказаться от встреч с исключаемыми и свалить их на Веснянского. Но теперь, задумчиво глядя на дверь, за которой скрылся бывший рабфаковец, Кремер пожалел об этом своем решении и несдержанности: сам он как-нибудь постарался бы смягчить этот жестокий приговор, может, что и посоветовать дельное этим парням. Конечно, мог бы! А Соломон Маркович — нет, это не тот человек. Нет, не тот. Для него доктрина — это все.
Конечно, доктрина — дело важное, и сам Кремер считал себя приверженцем коммунистической доктрины, то есть социальной справедливости для всех и каждого, но… но нельзя же во имя доктрины подавлять и калечить личность, мешать ей развиваться в свободных, так сказать, условиях… Ведь вот же на факультете несколько евреев, социальное происхождение которых далеко не безупречно, да и работают они не на производстве, а в каких-то конторах, да и там, ходят слухи, кое-кто из них только числится, однако вопрос об их исключении не только не ставится, но заведомо отвергается по причине их национальности, особо угнетавшейся царской властью. Так что же выходит? А выходит, что действие доктрин на евреев как бы и не распространяется? Не поэтому ли в нынешней Германии… а может быть, и поэтому… а среди совобывателей… и даже среди партийцев наблюдается все большее недовольство таким ненормальным положением… — отчего и в нем, Кремере, немецко-русское происхождение, — думал о себе Кремер в третьем лице, — продолжает раздваивать его индивидуальность, заставляя пребывать в постоянной настороженности и ожидании неминуемого несчастья.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: