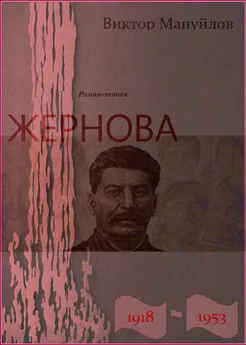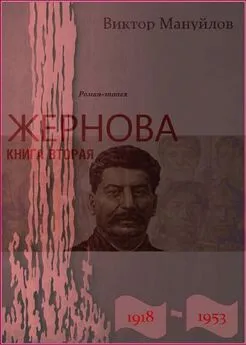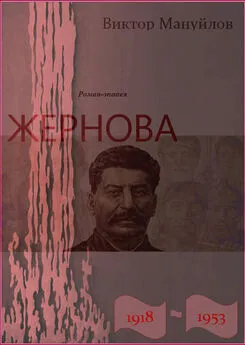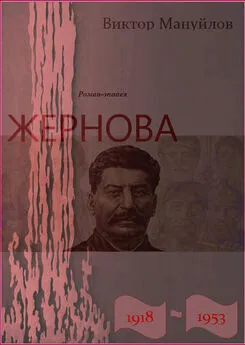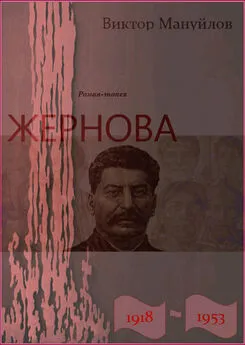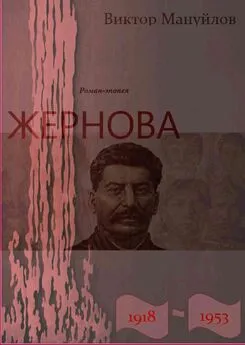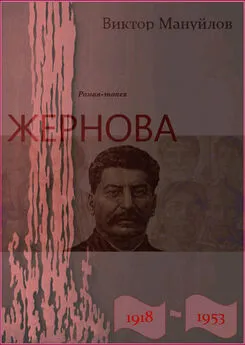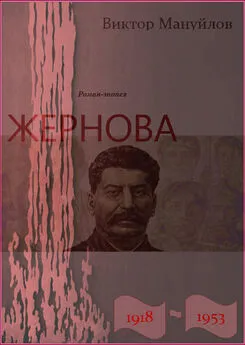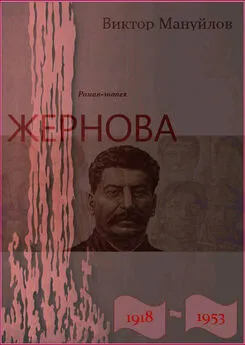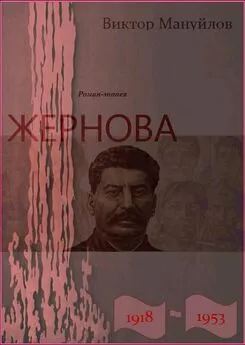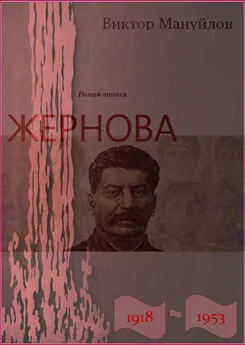Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953. Книга третья. Двойная жизнь
- Название:Жернова. 1918–1953. Книга третья. Двойная жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953. Книга третья. Двойная жизнь краткое содержание
Жернова. 1918–1953. Книга третья. Двойная жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Лихорадочное возбуждение охватывало Михаила с самого раннего утра. Едва он открывал глаза, — а чаще еще и не успевал их открыть, — как автомат начинал свою работу. Однако Михаил не давал ему воли, чувствуя, что это еще не настоящая работа, а как бы прикидка, опробование механических частей, отлаживание ритмического строя и способности производить созвучия. Он даже не притрагивался к заветной тетради и не смотрел в ее сторону, а терпеливо ждал, когда неуклюжая Мара напоит его чаем и уйдет, когда в коридоре смолкнут голоса и топот ног. Только после этого отпускал все внутренние тормоза, автомат включался на полную мощность и начинал производить одно четверостишие за другим.
Проходил час, два, три — Михаил не чувствовал времени. Но вот где-то неподалеку хриплый гудок какого-то завода или фабрики возвещал о перерыве в рабочем дне, ему отвечали дальние гудки других заводов и фабрик, еще через несколько минут начинали хлопать двери подъездов, отрывистые голоса поднимались со дна дома-колодца, торопливо топали каблуки по лестничным маршам, хлопали двери квартир, насыщая дом тревогой и ожиданием чего-то непоправимо-жуткого, сразу во многих местах включалось радио, и одни и те же жестяные голоса о чем-то настойчиво бубнили и пели одни и те же песни, чему-то радуясь и что-то проклиная, — автомат выключался, и в голове поэта начинала раскачиваться из стороны в сторону свинцовая глыба и биться о стенки черепной коробки, стараясь ее проломить.
Запыхавшись, прибегала Мара, разогревала на примусе обед, приносила в комнату Михаила тарелку с супом, ставила ее на табурет, смотрела, как он ест, и, захлебываясь, рассказывала о погоде, о чем пишут в газетах, что слышно вообще, избегая всяких трудных и непонятных тем и все время на них натыкаясь. В таких случаях она, подумав, говорила всегда одно и то же:
— А-а, это совсем уже не интересно. И никто не знает, что оно такое. Я лучше вам расскажу-таки, как на Дворцовой набережной столкнулись автомобиль и телега. Ой, это уже так было смешно, так смешно, что просто жуть! Они так долго не хотели сталкиваться, а милиционер все свистел и свистел, а лошадь все никак не хотела сворачивать, а автомобиль был из Смольного, поэтому извозчика арестовали вместе с лошадью. О! Это уже надо было видеть! — И засмеялась сдавленным смехом, прикрываясь ладошкой, с опаской поглядывая на больного, лицо которого почему-то вытянулось и окаменело.
А все дело в том, что у Михаила при слове "арестовали" свинцовая глыба остановилась в предлобье между глазами и, медленно раздвигая мозг, пыталась выдавить глаза, отчего зрачки свело к переносице, а на бледном лбу выступил пот.
Мара, спохватившись, отерла чистой тряпицей лоб больного и занялась приготовлением лекарств, украдкой вздыхая и думая, что, судя по всему, Михаил умрет, она останется старой девой и всю жизнь будет жить со своими родителями, потому что кому она нужна — такая вот… такая, а Михаил — первый мужчина-еврей, обративший на нее внимание, хотя, конечно, он и сам мало похож на легендарного царя Давида…
Накормив больного и дав ему порошки и капли, Мара пропадала до вечера в неведомых Михаилу таинственных подземельях, где вместе со своим сварливым отцом пересчитывает бриллианты и золотые царские червонцы, взвешивает церковные блюда, оклады от икон, кресты и крестики, кольца, перстни и прочие драгоценности, которые пойдут на индустриализацию и укрепление обороны.
Лекарства через какое-то время останавливали напор свинцовой глыбы внутри черепной коробки больного, и он, натянув на голову одеяло и пальто, в котором ходил на работу, покорно проваливался в пустоту, в которой не было ничего — ни снов, ни широкой постели, предназначенной для двоих, ни собственного его тела.
Спал Михаил часа два и просыпался всегда с испугом: ему казалось, что спал он слишком долго, что коварный врач по наущению Иоахима Моисеевича специально выписал ему такие порошки, чтобы не допустить Михаила к исполнению его великой миссии, и поэтому он, Михаил, должен проявлять изворотливость и не поддаваться на всякие соблазны. Но свинцовая глыба не шевелилась, а руки-ноги, наоборот, действовали, голова работала, и Михаил забывал о враче и Марином отце, снова входя в привычную для себя роль.
Осторожно высунувшись из-под одеяла, как сурок из норки после проливного дождя, оторвав от подушки лохматую голову, он долго прислушивался к тому, что существовало за дверью его комнаты, за окном и за стенами.
В это послеобеденное время во всей квартире — и во всем доме — дремала, как дремлют сторожевые псы, настороженная тишина, свидетельствующая о том, что здешние обитатели еще не вернулись с работы, из детских садов, яслей и школ, из очередей в продмаги и проммаги.
Михаил спускал на пол худые волосатые ноги в порыжелых коротковатых кальсонах с болтающимися штрипками, — эти кальсоны он носил уже лет десять, — выбирался из-под одеяла, накидывал на плечи пальто и брел сперва в туалет, потом на кухню, боясь встретить хоть кого-нибудь из жильцов. Особенно — кого-нибудь из Ерофеевых. Или желчную антисемитку Веру Ивановну Пригожих.
Вскипятив чаю, он возвращался к себе с большой алюминиевой кружкой и, отпивая по глотку, снова брался за перо. Однако автомат рифмопроизводитель работал уже не так бойко, заставляя своего хозяина то и дело морщить лоб и мучительно вглядываться в серый потолок с большим бурым пятном в дальнем углу.
Однажды вечером — где-то на четырнадцатый-пятнадцатый день болезни — Михаил услыхал, как в коридоре громко и взахлеб заплакал мальчик Коля, младший брат Димки Ерофеева. Тотчас же зазвучали голоса других жильцов, громче всех и с особым возмущением — антисемитки Веры Ивановны Пригожих. Плач тут же то ли прекратился, то ли переместился в квартиру Ерофеевых или Веры Ивановны.
Из-за этого плача и криков у Михаила внутри все сжалось и заныло от удушливой тоски, он сам готов был заплакать и забиться в истерике. Но не потому, что ему жалко стало этого Колю, а потому что…
Вот он, Михаил Золотинский, который… которому предстоит… и у него так мало времени, а он весь больной, но там, в коридоре, хотя и знают об этом, то есть о том, что он больной, однако, несмотря на это, то плачут, то громко разговаривают или даже смеются, то кричат или топают ногами, а у него от этого болит голова, свинцовая глыба начинает бешеный танец, пытаясь развалить черепную коробку. Бессовестные, бессердечные люди! И ведь не скажешь, не запретишь. А как бы хорошо было, если бы все пропали куда-нибудь, все стихло, ничто не шевелилось, не говорило, не звучало… Тогда бы он успел все сделать, приготовиться и явиться…
Едва затихли рыдания Коли Ерофеева и возмущенные крики женщин, в комнату к Михаилу пришла Мара, какая-то особенно неуклюжая и широкая, с капельками чего-то на усах, села на стул, подобрала под него короткие, толстые ноги и, качая большой головой, стала рассказывать:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: