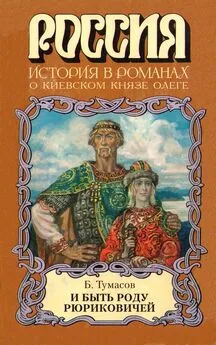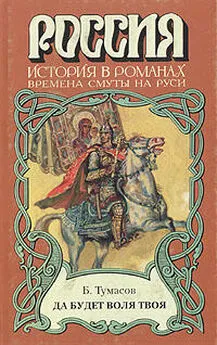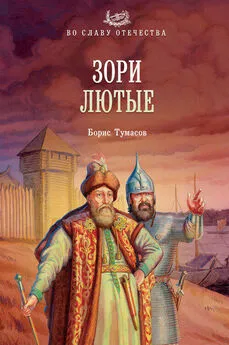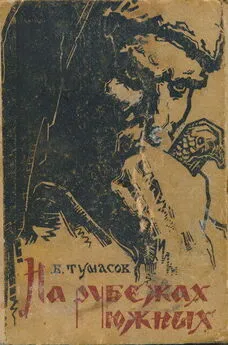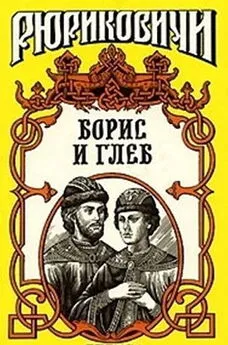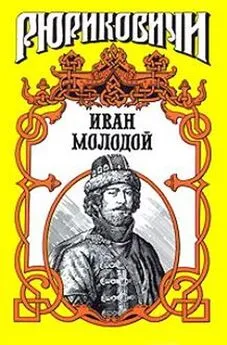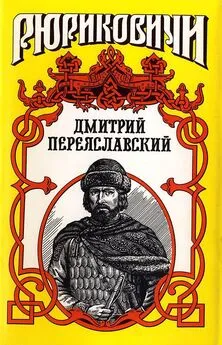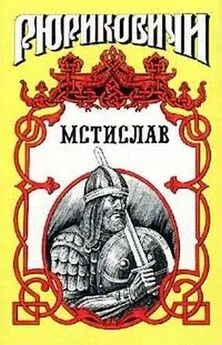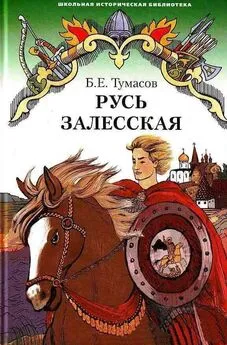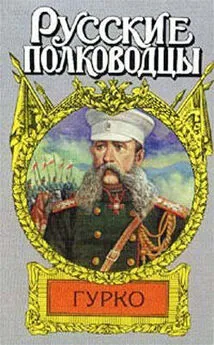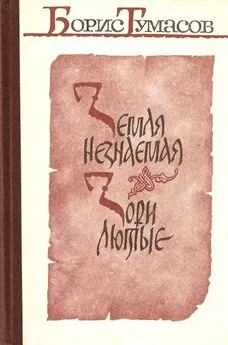Борис Тумасов - И быть роду Рюриковичей
- Название:И быть роду Рюриковичей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Армада
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-7632-0156-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Тумасов - И быть роду Рюриковичей краткое содержание
Н.М. Карамзин Роман известного писателя Б. Е. Тумасова рассказывает о киевском князе Олеге, который вслед за Рюриком много сделал для расширения Русского государства.
И быть роду Рюриковичей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А ещё Мурзай завидовал Сурбею: у его воинов прямая дорога на Кий-город, а от набегов в Уруссию орда Сурбея сделается богаче орды Мурзая...
Свою вежу Мурзай поставил там, где Саркел впадает в море Сурожское. Далеко видна просторная, белого войлока юрта, а вокруг полумесяцем стоят юрты семи его жён. В самой ближней живёт юная, как цветок, Танзи. Мурзай купил её у купцов из далёкого Хорезма. Он заплатил за неё много золота и не жалеет. Хорезмийка привязала его к себе, и теперь хан только к ней протоптал дорожку, а входы в юрты других жён поросли травой.
Колеблется на шесте ханский бунчук. День и ночь покой Мурзая охраняют храбрые стражи. Они свирепы и беспощадны.
По утрам хан объезжал коня. Он любил утреннюю степь. С высоты конского крупа Мурзай видел зелёную даль. Она где-то сходилась с небом. Иногда хан подъезжал к морю. Пока волны омывали конские копыта, Мурзай дышал сырым солёным воздухом и часто думал, что море, как и степь, меняет свою окраску: оно то зелёное, как молодая трава, то серое, подобно выгоревшей в зной степи, а то начинает перекатывать волны, ровно ковыль в непогоду.
Второе лето орда Мурзая не ходит в набеги. Ещё за Итилем хан бросал печенегов на камских булгар. А ведь хан знает: без войны улус слабеет, она печенегу праздник, кровь недруга пьянит, как хмельной кумыс. В набег печенег скачет с пустыми сумами, возвращается отягощённый, иногда приводит полонянку, жену. Когда хазары не будут угрожать улусу, Мурзай поведёт орду на Русь, а пока станет посылать в набеги своих тысячников. Они, подобно стреле, пущенной из тугого лука, промчатся по Уруссии и вернутся с добычей.
Гикая и визжа, пронеслись по земле суличей печенеги. Правым крылом прошлись по левобережью, дав о себе знать князю Олегу.
И с застав дошли в Киев тревожные вести: в Дикой степи орды печенегов силой великой объявились. Особое беспокойство у Олега вызвал улус Сурбея, чьё кочевье у самой границы Киевской Руси. Чаще, чем прежде, загорались теперь сигнальные шары на заставах, и спешила к Дикой степи княжья дружина.
Но однажды Олег позвал бояр и воевод, сказал:
— Не будем ждать, пока орда под стенами Киева встанет, отправимся в степь искать её.
И в Киеве принялись готовить дружины, собирать ополчение.
Выступили в первый осенний день, когда хлеб сжали и у смерда работы поубавилось. Воевода Ратибор повёл ратников правобережьем, а Олег, переправившись на левый берег, посадил пеших на телеги и сам с конной дружиной тронулся к Саркелу.
Осень стояла тёплая и сухая. Высохшая в солнцепёк степь лежала серая и унылая. Снявшись со становищ, печенеги избегали боя, ускользали от преследователей, будто играли с противником. А Олега сдерживали пешие ратники. Даже на телегах они не поспевали за конной дружиной, оставить же их Олег не решался: ну как нападут печенеги на ополченцев...
А когда листопад месяц закончился и назимник о себе дал знать первыми ночными заморозками, князь велел возвращаться в Киев.
— Однако не попусту мы исколесили Дикую степь, — говорил он, — пусть знают печенеги: коли не уймутся, мы с весны пойдём на них и сыщем, разорим улусников.
Ступил Урхо на новгородскую землю, кормчему и ладейникам поклонился и, потоптавшись у причала, от моста медленно побрёл к приказной избе. Шёл тяжело, предчувствуя, что не добром встретит его князь Юрий. Ноги, обутые в сыромятные постолы, будто чужие ступали по мостовой. Бревенчатые плахи местами подгнили, и лопарь подумал, что посадники и уличанские старосты [115] Уличанские старосты... — Новгород делился на две части и пять концов, а концы — на улицы с уличанскими старостами.
плохо следят за городом. В Детинец свернул. У открытых ворот ратник с копьём, щит у ног поставил, на Урхо никакого внимания не обратил. Вот изба приказная, кованые двери настежь. Заглянул в них Урхо — в избе малый, писчий человек, хозяйничал: сидел на лавке у дубового стола, потемневшего от времени, что-то царапал на бересте. А у стен ларцы, полосовым железом обтянутые, и в них книги счётные, куда малый вписывал доходы и расходы новгородские, грамоты берестяные...
Он лопаря заметил, бровь поднял. Урхо о князе спросил и услышал, что тот на Ильмене и будет через два дня.
Выбрался лопарь из избы, постоял, размышляя, куда ему теперь податься, и неожиданно увидел Доброгоста. Тот на Урхо тоже внимание обратил, узнал. Принялся расспрашивать о Киеве. Рассказал ему Урхо обо всём, от сына Ивашки поклон передал, поведал и о бедах своих. Нахмурился староста кончанский, думал недолго:
— Ты, лопарь, на своём веку немало помыкался, да и невольник князя Юрия — к чему далее судьбу испытывать?
Взял Урхо за рукав, на пристань повёл:
— Завтра с утра ушкуйники на север направляются, они тебя с собой возьмут, а там сам поглядишь, с ними ли останешься либо в отчий край подашься.
Стылым осенним днём, когда уже свернулся лист, готовый осыпаться, а низкое небо грозило первым снегом, к переправе, что у Боричевского своза, подъехала группа всадников в богатых одеждах. На переднем шуба соболья и такая же шапка, сапоги зелёного сафьяна, руки в кожаных на меху рукавицах.
За всадниками остановились две гружёные повозки на высоких колёсах. Всадник в собольей шубе что-то сказал одному из сопровождавших, и тот, спустившись к самой воде, закричал пронзительно:
— Посол великого кагана, хан Тургут, к великому князю киевскому!
Однако паромщик медлил, и толмач снова закричал:
— Эге-гей, холоп, уж не глухой ли ты?
Дожидаясь перевоза, Тургут рассматривал город, разбросавшийся по холмам, бревенчатые стены, башни. Внизу, у спуска, посад, который киевляне именуют Подолом. Там главное торжище. Тургут перевёл взгляд вверх, где виднелись княжьи хоромы. А вон на той вершине капище языческое, там дым вьётся — значит, горит огонь жертвенный. Хан — иудей, он эту веру недавно принял. Но в каганате к верам терпимы, почти все хазары — иудеи, есть среди них и язычники, но хазары-кочевники — мусульмане. В Итиле у каждой веры свой храм, свои боги.
Наконец паром отчалил и медленно пополз к левому берегу.
Рядом со старыми княжьими палатами поднялись стены новых каменных хором, светлых, с Красным крыльцом, вдвое больше прежних. Хоромы вот уже третье лето строили умельцы со всей Киевской Руси. Тёс для крыши заготовили заранее, а для полов сосны на доски распускали. Выбирали, чтоб не сучковатые были, просушивали — сырые рассохнутся, скрипеть будут, ровно телега немазаная. На оконца ромеи привозили стекольца венецианские в обмен на меха и зерно.
Хазарского посла Олег принимал в старых палатах, один на один: посол по-русски не только разумел, но и говорил бойко, без толмача обходились. Князь и хан сидели друг против друга за небольшим столом тёмного дерева. Из глиняного муравленого сосуда Олег налил в серебряные чаши сладкого корсунского вина:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: