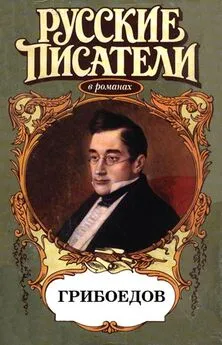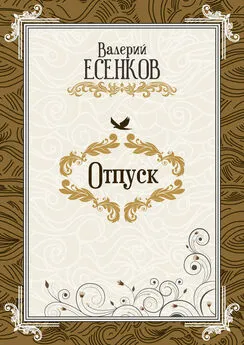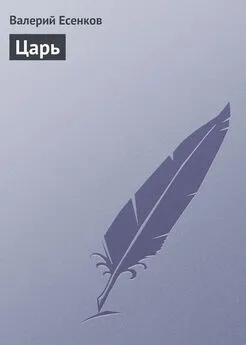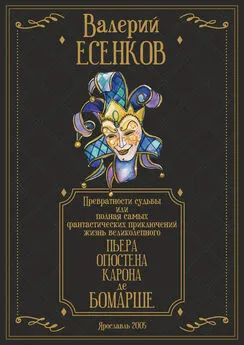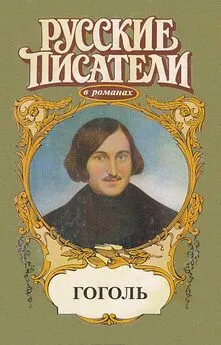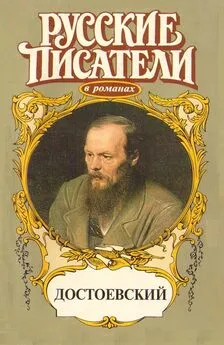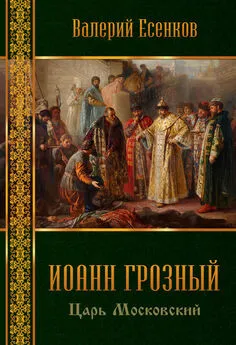Валерий Есенков - Дуэль четырех. Грибоедов
- Название:Дуэль четырех. Грибоедов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-17-022229-7, 5-271-08109-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Есенков - Дуэль четырех. Грибоедов краткое содержание
Новый роман современного писателя-историка В. Есенкова посвящён А. С. Грибоедову. В книге проносится целый калейдоскоп событий: клеветническое обвинение Грибоедова в трусости, грозившее тёмным пятном лечь на его честь, дуэль и смерть близкого друга, столкновения и споры с Чаадаевым и Пушкиным, с будущими декабристами, путешествие на Кавказ, знакомство с прославленным генералом Ермоловым...
Дуэль четырех. Грибоедов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Театры чуть не на каждом шагу. На первом месте, разумеется, считался казённый театр, владевший замечательной труппой, большей частью приобретённой за немалые деньги у Столыпина и Волконского, Михаила Петровича. Апраксин, Степан Степанович [133] Апраксин, Степан Степанович (1747-1827) — генерал в отставке, славившийся своим хлебосольством, литературными чтениями, концертами и спектаклями.
, привёз из Смоленска, которым правил в качестве генерал-губернатора, своих подневольных актёров, свою подневольную музыку и устроил на широкую ногу славный дом на углу Знаменки, выходящий на Арбатскую площадь. Затем Иван Александрович Загряжский, окружённый пышностью и привычками роскоши, благоприобретенными при штабе Потёмкина, которого был любимец и собеседник, привёз собственную балетную труппу в Москву и поместил за известную плату в Немецкий театр. Да и сам Нарышкин, Александр Львович [134] Нарышкин, Александр Львович (1760-1826) — обер-гофмаршал, обер-оберкамергер, меценат.
, императорских директор театров, славный как блестящим образованием европейским, так и дурачествами вроде того, что раскуривал трубку свою не иначе как воспламенёнными ассигнациями, балагурством на царских обедах, выслуживший тысячи душ и бриллианты чуть не пригоршнями, расточитель и мот, тоже отпускал актёров своих на оброк по московским домам, а чаще театральному ведомству, которым сам управлял.
Его театробесие скоро стало известно. Матушка возмущена была расточительством бесценного времени, потребного ему на уроки, но промолчала. Антон Антоныч ласково щурился, выговаривал по-отечески мягко:
— Вот каковы-та студенты у нас, на лету всё-та ловят, а кабы поменее-та по театрам шатались, так бы и в математике-та не отставали.
Тем и кончилось, как у Антона Антоныча кончалось всегда, лишь бы порядок в пансионе держался, как прежде, патриархально, благообразно, с тихим успехом, который хитроумный инспектор умел-таки превратить в гром и в парад, в утешение и восторг охочей до парадов Москвы.
Александр же был без ума от тяжеловесного русского классицизма с его громокипящим хромающим александрийским стихом, с пристрастием к высокозвучным, уже выходящим из употребления славинизмам и старорусским речениям, в особенности с предпочтением высокого низменному, героического вседневному, подвига дрязгу, с его преклонением перед трагедией как жанром, самым достойным и благородным, пробный камень дарований Создателя, в чём он уже никогда не сомневался с тех пор.
Однако ж и тут его светлейшие чувства были отравлены ядом чуть не смертельным. Слишком скоро обратил он внимание на некоторую странность наших театральных афиш. Обыкновенно в афишах перед именем актрис и актёров ставилась известная буковка «г», что означала почтительное, достойное обращение «госпожа», «господин», однако ж перед иными, чуть ли не многими, этой маленькой буковки не имелось, а все известные, с большим дарованием были актёры: Уваров, Кураев, Баранчеева, Волков, Лисицина. Что за притча? Отчего к ним такая немилость? По какой причине публично разделяли на два класса людей, которые в глазах его были чуть не братья на сцене, отличные один от другого лишь мерой и степенью своего дарования?
Он, конечно, узнал, ни для кого на Москве эта подлость была не секрет. Никчёмной буковкой отличали свободных от крепостных, сданных в аренду просвещёнными их господами, на которых чуть не молилась Москва. Участь этих сданных в аренду бывала отвратительна, даже ужасна. В наказе театральной дирекции предписывалось поступать с ними как с собственностью, что означало, иными словами, телесное наказание за ослушание или ошибку на сцене, а они ошибались изрядно. Сердобольный директор из принципа просвещённого гуманизма рекомендовал родителям подвергнуть провинившегося строгому наказанию, однако ж келейно, из уважения к званию. Не все родители изъявляли желание на экзекуцию из собственных рук, да не у всех и родители к тому времени оставались в живых, в таком случае виноватого отправляли на съезжую. У Всеволожского, Дурасова, Цицианова, Апраксина, Нарышкина, Столыпина или Волконского просто-напросто секли на конюшне. В Хмелите, как он допытался, актёров дядиных тоже секли. Недаром «Северный вестник» задавался вопросом прямо трагическим:
«Может ли Баранчеева при хороших способностях быть хорошей актрисой? Пусть другие рассудят, а не я. Заключи Рубенса, Гаррика в крепостные, они не были бы славою своего отечества...»
Имея воображение пылкое, сердце чувствительное ко всему вдохновенному и тайную склонность к перу, он некстати и вдруг осознал, что там не могут истинно уважать ни певцов вдохновенных, ни гениев сцены, ни равных Шекспиру и Шиллеру сочинителей пьес, где достоинство исчисляется количеством орденов и рабов. Сквозь зубы он иногда говорил:
— Явись в России Гомер, его бы Шереметев затмил — счастливый владетель Останкина, однако ж вельможа и скот. У нас похабные оргии старца Юсупова, придворного подлеца, славнее спектаклей Шекспира.
Уже мученье пламенным мечтателем быть на Руси коснулось его. Как потерянный бежал он от этих раззолоченных зал, бродил в одиночестве или смешивался с простонародьем во время гуляний в Сокольниках, под Новинском, на Девичьем поле. Народ и в праздники был страшно беден, скверно одет, к тому же любил-таки хватить лишнюю чарку простого вина и поглощён был одними примитивными животными нуждами, однако был весел и бодр, остроумен и жив, перекликаясь и зубоскаля на таком ядрёном, образном языке, что у него то и дело скулы сводило от зависти, и с горечью он думал о том, уже затемно возвращаясь домой, сколько мог бы великого, славного, может быть, фантастического произвести этот юный, этот ещё первозданный народ, получи он свободу во всём и на всё, предоставленный не барам и господам, а единственно себе самому!
Что же он? Сделаться Шереметевым или Гомером, попасть в Юсуповы или в Шекспиры? Оставаться мечтателем пламенным или пуститься на добычу орденов и чинов, Останкина и Юсупова сада? Чему учили, к чему призывали его?
И когда приблизился в очередь полугодичный акт пансиона, которые с таким блеском и жаром речей устраивал проворный Прокопович-Антонский, он без колебаний решил, что все три года, проведённые им в пансионе, потеряны были напрасно; что ему, чтобы не сделаться ни Шереметевым, ни Юсуповым, ни Измайловым, ни Храповицким, ещё только предстояло истинно себя просветить и что, как он пренаивно тогда полагал, ему необходимы настоящие университетские лекции, — чтобы приобрести хоть сколько-нибудь приличные сведения и ни в чём на самом деле не походить на почтенно-развратное московское барство.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: