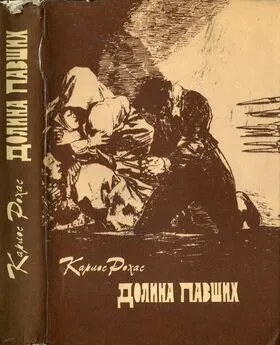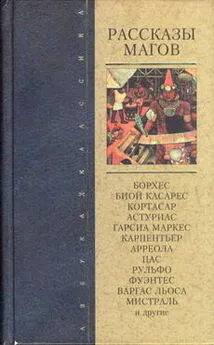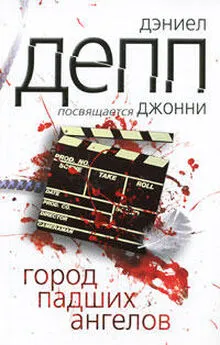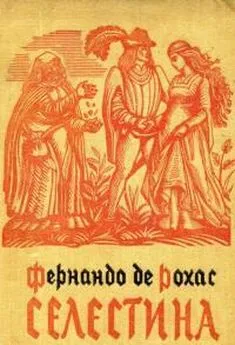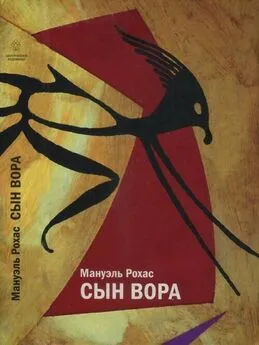Карлос Рохас - Долина павших
- Название:Долина павших
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Радуга
- Год:1983
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карлос Рохас - Долина павших краткое содержание
Долина павших - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Молодой человек в темном наряде, усыпанном зелеными блестками, и с завязанными глазами стоит в центре хоровода; в руке он сжимает большую деревянную ложку. Картина запечатлевает тот миг, когда юноша, чуть наклонясь, на ощупь водит в воздухе ложкой, а дама в белом и опустившийся на одно колено кавалер стараются не попасть ему под руку. Минуту назад, а может, несколько минут спустя (один из моментов галантного, изысканного, длящегося много дней подряд карнавального празднества) двинутся в танце эти взявшиеся за руки фигуры, справа налево, под звуки курантов, отзванивающих последние часы целой эпохи.
Совершенно очевидно, что все персонажи «Игры в жмурки» одеты в новенькие, с иголочки, сшитые по размеру маскарадные костюмы. Все они, как бы теперь сказали, представители золотой молодежи, разряженные под чернь — так одета толпа, совершающая утром паломничество к чудотворному источнику. Они разоделись так ради собственного удовольствия, а может быть, собираясь позировать художнику. В любом случае они выступают актерами в этом не слишком хорошо заученном фарсе, которого, по-видимому, ни они сами, ни Гойя как следует еще не понимают. Осознав их подлинное положение, положение актеров в театре своего столетия, мы замечаем и искусственность пейзажа. Дон Кихот преобразовал селения и просторы Кастилии в землю, рожденную его фантазией. На заднем плане некоторых своих конных портретов Веласкес пишет не загородную резиденцию Каса-де-Кампо, но шпалеру, которая копирует небеса и рощи этой резиденции. Акация, водоем, горы, трава и облачка — все это лишь рама, в которую оправлены фигуры, исполняющие танец с ложкой: картина в картине, сюжет на фоне trompe l’oeil [98] Здесь: необычайно правдивое изображение ( франц. ).
, потому что на первый взгляд, пожалуй, можно подумать, что тут представлена живая природа, а не ее изображение на заднике, подобное декорации к какому-нибудь сайнете.
«Гойя отходит от своих тем» — так озаглавил Ортега одну из глав незаконченной книги. Август Майер в свою очередь замечает, что картонам Гойи, в том числе и «Игре в жмурки», не хватает главного персонажа. Ювелиру ни к чему быть излишне пристрастным, уточняет Ортега. Несомненно, Гойю, наблюдающего свое время, гораздо больше интересует смысл эпохи, чем отдельные ее персонажи. Позднее, погрузившись в глухоту, он инстинктивно приблизится к этим фигурам, словно бы потерял не слух, а зрение. Однако в этом последнем заказе Королевской шпалерной мануфактуры Гойя смотрит на девять пляшущих фигур со стороны, и они представляются ему куклами или марионетками. Он на свой лад обнажает их, но не судит при этом, а со стороны наблюдает за их легкомысленной игрой. В конце концов, как пишет сам Гойя Сапатеру, в наше время даже короткий срок, отпущенный нам, надо прожить как можно лучше.
Здесь, на берегу водоема, где играют в жмурки, никогда не стемнеет, потому что художник остановил время, и еще потому, что небеса здесь бумажные. А в садах дворца Капричо, где Пепе-Ильо и Костильярес раскачивают качели с герцогиней Осуной, на пруды и акации начинает медленно опускаться ночь. И очень скоро тьма сомкнется, и все действующие лица этого долгого маскарадного праздника ослепнут, как и наряженный в махо молодой кавалер, щупающий воздух деревянной ложкой. И тогда в бесконечных потемках, которые и по сей день еще окутывают страну, засветятся глаза чудовищ, которые Гойя извлечет из своих «Капричос»: из того самого лабиринта, длиною во всю нашу историю, новейшую и вечную, где всегда будет все то же самое, ибо люди не знают дороги.
1 апреля 1828 года
«Дорогой Хавьер, не могу писать ни о чем, кроме радости, которая так меня взбудоражила, что я слег. Богу угодно, чтобы я увидел тебя и обнял, когда ты приедешь, и сбудется моя мечта». Я поставил подпись, а Марианито приписал несколько слов от себя: «Дорогой папа, дедушка шлет вам эти строки и четыре письма в доказательство, что он еще жив». По правде сказать, жить я не живу, такая меня охватила радость. Позавчера прибыли невестка с Марианито и тут же сообщили, что Хавьер приедет за ними через пару недель. От счастливого ожидания мига, когда все они соберутся вокруг меня, я просто обезумел и в конце концов разболелся. Часами говорю и говорю, как старая кумушка, и не похоже, чтобы они устали от моей болтовни. Невестка — хорошая, только молчунья, как все Гойкоэчеа, больше баски, чем мадридцы; она только улыбается да иногда ласково кивает головой. А вот Марианито — вылитый я. Ничего не взял ни от Гойкоэчеа, родни по материнской линии, ни от Байеу, предков бабушки, моей покойной Хосефы. Он таков же, каким был я в его возрасте, а ему теперь семнадцать или восемнадцать. Он вышел сильным и ладным, и характер под стать внешности, в самый раз, как кольцо на пальце. Пылкий, звонкий, способен быть и жестким, и нежным. Иногда он прерывает мое говорение и обнимет или чмокнет в щеку, радуясь какой-нибудь моей мысли или забавному воспоминанию. Женщины будут рвать его на части, если только уже не начали ссориться из-за него. Боюсь, как бы мужчинам не пришлось отведать его шпаги или навахи на дуэлях и в ссорах, что со мною случалось. Мне кажется естественным и знаменательным, что своего отца он называет на «вы», в то время как со мною — на «ты». Обо всем этом и о многих других вещах хотелось бы мне поговорить с Хавьером, когда он приедет в Бордо. Хоть бы его приезд, который мне обещают через две недели, не задержался и я, как светильник, не угас прежде. Моратин сказал мне однажды, что всегда старается избегать счастья, потому что счастье — предатель больший, чем беда. Не хочется верить, но я вспомнил Моратина, когда сегодня после завтрака почувствовал себя вялым и больным. До тех пор, с самого приезда дорогих путешественников, сила, бодрость моя была так же велика, как и радость. Но теперь, лежа под одеялами, я снова вспомнил, что мне восемьдесят два года и что в моем возрасте наивысшее счастье, как я сказал однажды Его величеству королю, — умереть прежде Хавьера и, разумеется, прежде Марианито. Вот об этих-то и еще о многих других вещах хочется мне поговорить с сыном, когда он приедет в Бордо. В отличие от Марианито в Хавьере равно смешалась моя кровь с кровью Байеу. Порою он, точь-в-точь как я, теряет власть над собой, и тогда его несет неведомо куда, будто ветром. Но в большинстве случаев Хавьер умеет быть умеренным и предусмотрительным, как его мать. В этом мы с ним совсем разные, потому что я, решив действовать с осторожностью, обязательно впадаю в трусость и в гнусность. (И с Марианито будет происходить то же самое, если бог ему не поможет.) Хавьеру с его тактом и чувством меры удалось бы смягчить резкий характер Леокадии, о котором мне даже думать не хочется. Не успели приехать Марианито с невесткой, как она спрятала Росарито неизвестно куда, будто боялась заразиться проказой. Потом она, Леокадия, повела себя словно какая-нибудь прислуга — почтительно, но сурово и отчужденно. «К вашим услугам, сеньора. На обед будет приготовлено то, что повелит сеньора», — читал я по ее губам, когда она обращалась к невестке, а та, общаясь с этим василиском, изо всех сил старалась одолеть собственную сдержанность. А то резанет насмешкой, как ножом. «Сеньорито угодно шоколаду с булочками в постель или он предпочитает позавтракать вместе со всеми?» — обращалась она к Мариано. Позавчера ночью, когда мы укладывались спать, я попросил ее умерить немного характер, не омрачать моего счастья. Как будто я посыпал ей солью раны, просто вся зашлась, и так бранила меня, так бранила! Облокотилась на подушку и лампу поднесла к самому лицу, чтобы я ни слова не пропустил с ее губ. «Ты совсем слеп, не видишь даже собственной глупости! Дурак из дураков! Не понимаешь разве, они приехали за одним: убедиться, что ты не изменил завещания? Плевать им на твою кровь, твое имя, да и на саму твою жизнь, им бы только знать, что они получат твои деньги, твой дом и твои картины. Заполучи они все это теперь же, они бы бросили тебя подыхать на чужбине, и глазом бы на тебя не глянули. Плевать им, что тебя сожрет — одиночество или черви, — им одно нужно — наследство. Да что их судить, проживи они тысячу лет, они бы все равно тебя не поняли. Будут носить твое имя, они — твоя плоть, но никогда, никогда в жизни так и не узнают, кем ты был в этом мире». От гнева слова у нее натыкались друг на друга, и я думал, она вот-вот разобьет лампу о мою голову. «Не удались они не оттого, что выросли эгоистами, а оттого эгоисты, что не удались!» — продолжала Леокадия метать громы и молнии, едва перевела дыхание. «А сын твой Хавьер еще хуже лисы-невестки и проходимца-внука! Хуже, потому что лицемернее этой парочки паяцев и не такой дурак, как они. Хоронится в тени, ждет, что донесут ему шпионы. Напиши они, что ты помер, он бы сломя голову примчался сюда заграбастать все, до последнего носового платка. А потом бы пошли распродавать и твои картины, одну за другой, — на корм скоту или на акции банка Сан-Франсиско!» Я закрыл глаза, чтобы не слышать ее, уткнулся головой в подушку и погрузился в сон. («Скоро семь лет, как в Риме скончалась моя мать, а через десять дней за ней последовал отец — из Неаполя прямиком в ад. Только тогда и впервые в жизни я почувствовал себя свободным. Потом-то я понял, что это не так, что свободным на самом деле можно быть лишь в том случае, если тебя не зачинали. Свободны только те, которые никогда не были, ибо даже мертвые отбывают наказание. А все остальное на свете, в том числе и королевская власть, — след на воде да судейские кляузы».) В столовой, еще более просторной, чем во дворце Вента-дель-Айре, где почти все столики пустовали, завтракали мужчина и женщина. Его голос, мне казалось, я мог представить, потому что он был в точности как мой иногда во сне; но оба они молчали, будто в рот воды набрав. На стене висел последний написанный мною портрет Его величества короля в горностаевой мантии и со скипетром в руке. («В день смерти матери сестра Мария Луиса написала мне письмо из Рима. Мать умерла, как говорится, почти на руках у Годоя. Целую неделю он не отходил от постели умирающей, оставался один на один с нею. Перед самой смертью мать позвала Марию Луису и сказала: „Я умираю. Оставляю тебе Мануэля. Приблизь его к себе, преданнее человека вам с Фернандо не найти“. Когда сестра увидела, что дело плохо, она удалила из покоев колбасника, лившего слезы, точно кающаяся богомолка, и позвала священников».) Теперь женщина сидела на поваленном стволе, где-то на лугу. Она была в вязаном жилете, похожем на те, что носят пастухи в Леоне, и длинных узких штанах, какие надевают тореро, собираясь на пробный бой. Человек с голосом, похожим на мой — или, во всяком случае, на воспоминание о нем, — стоял подле женщины. Она держала его руку в своих и что-то говорила, но слов ее во сне я не мог разобрать; на ее лице, освещенном зимним солнцем, читалась трудная работа мысли. На запорошенном снегом лугу несколько фигур играли в жмурки, как на моем последнем картоне для шпалер. Они играли, танцевали, хохотали, но ничего этого я в своей глухоте не слышал. Я глядел на пару и на губах женщины прочитал два вопроса: «Ты знаешь, кто ты? Знаешь точно, кто мы?» — «„Игра в жмурки“ говорит, кем мы станем», — отвечал ей мужчина. Я задумал эту картину во дворце Капричо, после долгой тяжбы с Королевской мануфактурой. Я не хотел больше писать для них картоны, но потом дал согласие на последний, который вобрал в себя четыре сделанных ранее эскиза о празднике святого Исидро. Темой послужили игры, которые я наблюдал в рощах у герцогини Осуны. Я не стал писать скит и чудотворный источник, все это было уже вчерашним днем. Не стал обозначать и очертаний Мадрида вдали. Вместо этого придумал пейзаж, что-то среднее между тем, какие изображают на шпалерах или видят в мечтах и какие писал Веласкес. Одного аристократа нарядил мадридским гулякой из простонародья, завязал ему глаза, вложил в руку длинную деревянную ложку и поместил в центре холста. Вокруг него нарисовал четыре пары франтов и франтих, тоже в маскарадных костюмах; держась за руки, они плясали в хороводе. Картон очень понравился, и на Королевской мануфактуре меня всячески расхваливали, упрашивали писать для них еще и на выгодных условиях. По секрету мне предложили за будущие работы столько, сколько не получал даже сам Франсиско Байеу, мой старший шурин. Я наотрез отказался. Эта пора моей жизни, жизни художника шпалерной мануфактуры Санта-Барбара, окончилась. Искусственно продлевать ее — так же нелепо, как пытаться затянуть рассвет до полудня или удержать след на воде. Тогда я лишь неясно чувствовал, и только много лет спустя понял, что целая эпоха, в которую нам выпало появиться на свет, войти в ум и народить детей, оканчивалась вместе с этой полосою моей карьеры. Как сейчас помню праздник святого Исидро в том году, когда я написал «Игру в жмурки», — не то в 1787, не то в 1788. Герцогине Осуне пришла в голову мысль отправиться в марте к скиту святого Исидро на гулянье. «Только вот так, хотя бы раз в год живя вместе с народом, мы сможем понять смысл нашего существования на земле», — сказала герцогиня Осуна. Я подумал, уж не забыла ли она, откуда взялись такие, как Костильярес, Пепе-Ильо, да и я сам; те выросли среди продавцов требухи и мошенников на городской бойне, а я — сын золотильщика из Арагона. Должно быть, она и вправду позабыла, но не потому, что, как считают люди, мы — любовники, а потому, что она сама и герцог называют нас своими друзьями. А для герцогов Осуна этот титул поважнее королевской крови. И вот мы в открытых экипажах и в каретах выехали из дворца Капричо и через весь Мадрид направились к источнику святого Исидро. «Какое ясное утро, будто сошло с твоих картин», — сказала мне герцогиня. «А может, и сошло», — ответил я, и мы рассмеялись. От глухоты меня отделяло несколько лет, я еще слышал, и не только во сне, как смеюсь я сам и как смеются женщины. Через арку, воздвигнутую Его величеством королем Доном Карлосом III, которому суждено было умереть в том самом году, мы выехали на улицу Алькала. Проехали мимо монастырей Бернардинок, Баронесс, ордена Калатравы. Было раннее утро, и звонили к заутренней колокола на церкви святого Иосифа, что подле часовни святой Тересы, где, как рассказал мне герцог, было выставлено тело дона Родриго Кальдерона, после того, как он с легендарным достоинством взошел на плаху. «Сегодня монарший фаворит, а завтра преступник, осужденный за растрату. Говорят, когда Филипп III скончался, дон Родриго Кальдерон, Маркиз Семи церквей, воскликнул: „Король умер, и я тоже мертв!“» — рассказывал мне герцог Осуна. «К убранному в траур помосту он подъехал на муле в сопровождении судейских, глашатаев, альгуасилов и прочего казенного люда. По этим улицам, до самой Пласа-Майор, где его должны были повесить, бежали за ним молодые девицы, словно на карнавал. Разбойникам в ту пору не жилось так сладко, как нынче; но умирали они куда достойнее». У монастыря святого Иосифа, вблизи площади Альмиранте, жил никому тогда еще не известный военный из Эстремадуры; звали его Мануэль Годой. На углу улиц Сан-Херонимо и Алькала совсем еще молоденькая тогда Мария Тереса строила себе дворец Буэнависта. Ни ей самой, ни ее мужу, маркизу Вильяфранка, не суждено будет жить в нем и даже увидеть его законченным. После смерти Марии Тересы при распродаже ее имущества это здание будет подарено бывшему эстремадурскому офицеру, превратившемуся в герцога Алькудиа и Принца Мира. Справедливость-насмешница (уж не знаю, по воле небес или ада) распорядится так, что все состояние Принца Мира после того, как он попадет в немилость, будет разграблено. («Признаюсь тебе в том, чего никто не знает. Мать оставила все свое состояние своему любовнику, колбаснику. Разумеется, я не дал Годою увидеть ни гроша из тех богатств. Можешь быть уверен, он окончит свои дни в Париже, сгниет в нищете».) Подъехав к скиту, мы отведали воды из чудотворного источника. Как сейчас помню, она отдавала инеем и горными ветрами. Герцогиня отпустила пару шуточек, почти святотатственных, насчет чудес, творящихся у источника. Но Пепе-Ильо с Костильяресом пили с серьезным видом, прикрыв глаза, как будто молили святого дать им передышку, защитить от бычьих рогов. «У каждой эпохи своя золотая, чудесная пора, — говорила герцогиня Осуна. — У язычников она пришлась на то время, когда животные разговаривали и загадывали загадки. В христианстве то была пора чудес. И даже у дьявола в распоряжении — колдовство и ведьминские шабаши, где черти в человечьем обличье портят девственниц даже в таком католическом крае, как Бискайя. А в наши дни разум — единственная область необыкновенного». «Не забывай о свободе, моя дорогая, — улыбался герцог. — Мы верим в нее, как и во всемогущий разум, хотя не знаю, одинаковы ли основания для одной и для другой веры». Поэт Ириарте вдохнул понюшку табака и уселся поближе к расстеленной на лугу скатерти. «Быть может, чудеса и теперь случаются, только мы слепы и не замечаем их. Такое пренебрежение к чудесному присуще всем империям в период агонии. Вспомните Юлия Цезаря, как он презрел зловещие предсказания и отправился в Сенат». «Сравнение не годится, славный мой Ириарте, нашего нового монарха трудно равнять с Цезарем, а римский сенат с Советом Кастилии — тем паче», — возразил герцог. «Совершенно верно, Ириарте, не кощунствуйте, — вмешалась герцогиня. — Я никогда не верила в божественное право королей, но только в божественное право императоров и, конечно, герцогов. Однако же вынуждена заметить, что Юлий Цезарь, хотя он и император, был извращенцем». Все засмеялись, и даже матадоры, которым с трудом удавалось следить за нитью столь изысканного спора. «Я имел в виду не Его величество и не Совет Кастилии, — улыбался Ириарте, — а серьезных и добропорядочных людей вроде нас. Чудеса творятся впустую, мы не умеем их толковать. Превратить воду в вино — чудо немалое; но то, что мы будем жить на холстах этого человека, — он ленивым жестом указал на меня, — быть может, много веков после нашей смерти, мне кажется чудом не меньшим. Самое чудесное заключается не в том, чтобы переделать настоящее, но в том, чтобы угадать будущие перемены. Таким образом, наш прах воплотится в наших портретах, подобно тому, как палитра обращает холст в зеркало». — «Ах, Ириарте, как прекрасно то, что вы говорите! — захлопала в ладоши герцогиня Осуна. — Надо бы все это переложить в пьесу и назвать „Источник святого Исидро“. Мы бы представили ее в нашем театре, во дворце Капричо, и каждый играл бы в ней самого себя, вот как сейчас мы тут разговариваем. А в конце выходило бы, что все мы — фигуры со шпалеры или из воспоминаний, которым наш художник предается в старости». Ириарте улыбался, покачивая головой. «Ваш замысел превосходит мои возможности, сеньора. Написать такое мог бы только биограф больших художников вроде Вазари». На вопрос, кто такой Вазари, Ириарте ответил рассказом о его книге «Le Vite de’più Eccelenti Pittori, Scultori e Architetti» [99] «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих».
. Я был доволен, что разговор перешел на другое, потому что не знал, посмеивается Ириарте надо мною или совершенно искренно рассыпается в неумеренных похвалах. Скорее всего, и то и другое вместе. Праздник пролетел как ветер. Как один день. Как наша жизнь. Тридцать или тридцать пять лет спустя я снова побывал у источника святого Исидро — во время первого гулянья, после войны. К тому времени все участники нашей давней поездки давно умерли, кроме герцогини Осуны и меня, но и мы с ней больше не виделись. Накануне ко мне пришли из дворца — меня вызывал Его величество король, несколько дней назад возвратившийся из Валансе. Ему понравились картины «Расстрел в ночь со 2 на 3 мая 1808 года» и «Восстание 2 мая 1808 года», которые были выставлены на триумфальной арке Пуэрта-де-Алькала. Как и у всех в его роду, у короля было инстинктивное чувство справедливости по отношению к живописи, которого у него никогда не было по отношению к ближнему или к себе самому. С полным основанием он отдал предпочтение картине о расстреле перед картиной о восстании. Как мне потом рассказали, он велел остановить карету против картин и — к величайшему изумлению толпы — вышел из кареты, чтобы как следует рассмотреть полотна. «Проклятый старик спас свою шкуру! Не было и нет ему равного!» — услышали его шепот те, что стояли близко. Потом, качая головой и улыбаясь своей улыбкой гиены, он снова сел в карету. Во дворце в то утро он не поминал моих отношений с захватчиками и с французским королем. Я слишком хорошо знал его и понял: то было не безразличие — он хотел держать меня в неведении, будут меня судить за измену королевской власти или нет. По правде сказать, меня ничуть не беспокоило, что со мной сделают, потому что, написав «Расстрел в ночь со 2 на 3 мая 1808 года», я потерял страх смерти. Я бы мог убежать вместе с теми, кто, как и я, был связан с французами, но я не убежал; однако вспоминать прошлое тоже не хотел. Аудиенция была короткой и свелась к монологу короля. Сделав несколько очень тонких замечаний по поводу моей живописи и искусства в целом, король сказал, что хочет из картин, составляющих королевскую коллекцию, устроить музей для народа, и наконец сообщил, что назавтра, в день святого Исидро, я должен сопровождать его к скиту и чудотворному источнику, где будет устроено гулянье. «Праздник будет небывалый: праздник в честь мира, завоеванного Желанным, — уточнил он, улыбаясь бесцветной улыбкой. — Я бы хотел, чтобы ты сделал наброски, а потом, глядишь, и картину». На следующее утро меня посадили вместе с ним в королевскую карету. Он приветственно подмигнул мне и ткнул локтем в ребра. Изо рта у него пахло тухлыми яйцами и табаком. «Надо сказать, в определенном смысле мы в долгу перед твоими друзьями французами. Признаюсь откровенно, но ты обещай держать в секрете». Впервые, хотя и косвенно, он заговаривал о моих отношениях с королем Жозефом и его людьми. Я прекрасно разбирал по губам, что он говорил, но не ответил и не хотел сознаваться, что понял намек. Однако, похоже, он не ждал от меня извинений или возражений, потому что продолжал: «Самозванец отменил виселицу и ввел постыдную гарроту, что знаменует собой необратимый прогресс в области наших юридических норм. Научиться вешать может каждый, в два счета, я и сам еще мальчишкой повесил пуделенка моей матери, хотел отомстить уже не помню за какое наказание. Ты, наверное, помнишь, в юности я был горазд на выдумки. Жаль, потом не поощрял собственных естественных склонностей, иначе бы повесил и колбасника на том же дереве. Как ты считаешь?» Наверное, я ответил ему, что слишком много видел преступлений во время войны и потому больше никому не желаю смерти. Он рассмеялся лающим смехом. «Не лицемерь, старина! Талант, данный тебе дьяволом, прощает все грехи, кроме двуличия. Ты же главный палач в королевстве, как ты тогда разделал нас всех на семейном портрете. И потом в каждой картине казнил без всяких церемоний. Я тебя не упрекаю, просто ты сильнее, вот и подчинил нас своему закону». Я сказал, что никому ничего не навязывал, просто писал то, что видел. Он согласился, пожав плечами. «Мы с тобой пришли в мир с одной целью; ведь ты нас увидел такими, какие мы есть, не только снаружи, но изнутри. И заставил выставить напоказ всю нашу суть. Жаль, что с годами ты тоже теряешь силу, я ведь с тех пор никому больше не верю, только себе самому. Беда в том, что я на самом деле не существую. Я — сумасшедший, который воображает себя Желанным. Скажи мне, старик, а ты веришь в бога, как в своего короля?» Я сделал вид, что не разобрал вопроса, а король продолжал, не глядя на меня; развалясь на сиденье, он широко расставил ноги и уперся взглядом в потолок экипажа. «Я верю в гарроту. Она — неизбежный результат естественной гармонии прошедшего столетия. Если мы благоразумно сумеем воздать ей должное с первых же дней мира, то этот сумасшедший дом может превратиться в Аркадию. Мой народ обязан мне всем, и пять лет подряд он моим именем убивал себе подобных. А теперь в обмен на порядок ответит мне полным повиновением». Чем ближе мы подъезжали к скиту, тем гуще становилась толпа. Его величество король собственноручно раздвинул на окошках кареты занавески с помпончиками. На склонах холма войска старательно сдерживали толпу, которая, бурно приветствуя короля, готова была залезть в карету. Монарх улыбался и, галантно изгибаясь, направо и налево посылал рукой привет. Мне казалось, я спустился в последний круг ада, наступившего вместе с миром, ада, в глубины которого мы не опускались даже во время войны. Людские волны нищих, прокаженных, слепцов, калек, голодающих вместе со своим голодом, наготою и семьями снялись с выжженных войною земель и хлынули к чудотворному источнику отведать святой водицы и выразить верноподданнические чувства своему королю. По приказу, поступившему из дворца, как я потом узнал, солдаты раздавали толпе виноградные выжимки, и пьяные орды сотрясали небеса рыком. Славили Желанного, святую инквизицию, тюрьмы и цепи. Монарх взял на себя труд пересказывать мне вопли толпы, чтобы я не мог спрятаться от ее рева даже в своей глухоте. Едкое зловоние тел, гниющих от гангрены, смрад пота и винного перегара просачивались в карету, к великому удовольствию Дона Фернандо. «Как пахнет наш благородный народ, старик! Наслаждайся хотя бы смрадом плоти, раз уж тебе не дано слышать, как они орут! А как воняют, ну совсем как мы, недаром же созданы они по нашему подобию; по образу и подобию господа бога! В любой другой стране, с виду цивилизованной, вроде Франции, где живут твои дружки, быдло устроило бы революцию и отрубило голову и тебе и мне. Тебе, наверное, даже раньше — за то, что выбрался с той самой земли и с той самой улицы, где они по сей день мучаются. В Валансе Корсиканец передал мне как-то фразу одного якобинца. Этот якобинец, не помню, как его звали, совершенно справедливо заметил, что королями не рождаются безнаказанно. А родиться художником вроде тебя еще более непростительно. Для подобных людей — а их во всей истории по пальцам перечесть — нет на земле ни прибежища, ни места, хотя мы, короли, и позволяем им иногда рисовать нас такими, какие мы есть. Ничего, смерть сделает тебя безобидным, а потом тебя вспомнят как свидетеля нашего позора и запрут в невидимую клетку, одну из тех, что будущее приберегает для чудовищ». Он открыл окошки, и море смердящей и орущей плоти хлынуло в них — поцеловать руку Желанному. А он, смеясь, протягивал ее этой своре с вылезающими из орбит глазами и разверстыми пастями, и оттого, что я не слышал ни звука, ужас еще сильнее охватывал меня. Король хохотал и давал лизать себе ладони, слюнявить пальцы, ловить их зубами и спорить, кому достанется чмокнуть его в ноготь. Неожиданно, как с ним бывало, ему это надоело, и он с силой ударил рукоятью палки по потолку кареты. Как по условному сигналу, кучеры бросились хлестать кнутами ту же самую толпу, а гвардейцы из эскорта принялись палить в воздух. Его величество король вытерся платком, надушенным двумя перебивающими друг друга благовониями: эвкалиптом и пачулями. Потом брезгливым жестом выбросил платок в окно и закурил сигару. «С таким народом за ключи от королевства можно не беспокоиться, они в полной безопасности. Нам с тобой нечего бояться. В такой стране не может быть настоящей революции. А с помощью гарроты мы заживем в мире, и палач будет нашим ангелом-хранителем. Какое утешение знать, что этот нищий сброд, этот двор чудес меня обожает, а заставь их убивать, они будут свирепее всех, в чем захватчики убедились на собственной шкуре. Они одинаково годятся и в убийцы и в лакеи. Но не дай бог завладеть им нашими городами и оружием — пришлось бы стрелять их не один год, чтобы снова наставить на путь истинный. А я вот вместо этого устрою музей живописи, и там выставят семейный портрет, который ты написал. Придет время, когда нас на том портрете не будут узнавать, люди забудут, как звали меня и тех, кто рядом со мною. А твое имя, напротив, будут помнить всегда, во всяком случае, я надеюсь, что так будет». Далеко позади, на склоне, осталась голодная, одурманенная виноградными выжимками чернь. Погрузившись в мысли, я смотрел на него, а карета уезжала все дальше, приближаясь к скиту. Отведав кнута и ружейных прикладов, люди теперь теснились точно стадо, сбитое в кучу сторожевыми псами. Еле волоча босые или обутые в опорки ноги, они продолжали свой путь к скиту и чудотворному источнику. Впереди шел слепец с огромными бельмами и головою, вывороченной точно у поломанной куклы. Судя по тому, как он разевал рот, он орал благим матом, ударяя при этом по струнам гитары. Остальные, похоже, подпевали. Неожиданно налетела майская гроза, небо среди белого дня потемнело, словно почерневшее, но еще кое-где поблескивающее старое серебро. Скоро первые молнии, наверное, рассекут небеса и над церковью Сан-Антонио-де-ла-Флорида. Не могу сказать, что много лет я носил в памяти образ этих паломников. Написать их сразу такими не значило приблизиться к тому, что было в действительности. Память накапливает у себя на чердаке слишком много впечатлений, и лишь время от времени какое-нибудь из них всплывает. Вернее сказать, эта нескончаемая вереница попрошаек, слепцов, прокаженных, увечных, искореженных бедствиями войны и объединенных в день святого Исидро верою в чудотворный источник и в Желанного, последовала из того дня за мною дальше и, топя свои вопли в моей глухоте, проникла в самую глубь моего существа, словно надеялась там отыскать конец и цель своего долгого странствия. Лет пять или шесть спустя я купил Дом Глухого и написал ту процессию на стене как заклятье, чтобы избавиться от них, — так раньше я нарисовал Сатурна, пожирающего своего сына. («Рассказывать историю нашей Испании все равно что исповедоваться в тайных злодеяниях».) Наверное, это правда, ибо страна так давно пожирает себя, что и сама восприняла безжалостную жестокость выродков. Как бы то ни было, но очень скоро дом со всей росписью отойдет Хавьеру, сколько бы ни сетовала Леокадия. («…Плевать им на твою кровь, твое имя, да и на саму твою жизнь, им бы только знать, что они получат твои деньги, дом и картины. Заполучи они все это теперь же, они бы бросили тебя подыхать на чужбине, и глазом бы на тебя не глянули. Плевать им, что тебя сожрет — одиночество или черви, им одно нужно — наследство…») Я сказал Его величеству королю, что счастье для меня — умереть прежде моего сына. Но сейчас мне кажется, что это не совсем так. Мое представление о счастье становится все требовательнее. Теперь для его полноты надо, чтобы Хавьер приехал в Бордо раньше, чем я умру. Увидеть его еще раз, хотя бы на миг, в награду за выпавшую мне муку: ни разу со дней младенчества не слышать его голоса. По сути, я снова обманываю себя; если Хавьер приедет очень скоро, как уверяют невестка с Марианито, то величайшим благом для меня станет не умереть тотчас же. Лучше забыть, что ты жив, а еще лучше — что можешь умереть! Смириться и ждать приезда сына спокойно, день за днем, но не слишком долго! («…Хоронится в тени, ждет, что донесут ему шпионы. Напиши они, что ты помер, он бы сломя голову примчался сюда заграбастать все до последнего носового платка. А потом бы пошли распродавать и твои картины, одну за другой — на корм скоту да на акции банка Сан-Франсиско!») Какое мне дело до того, как поступит Хавьер с моими холстами, когда я буду уже мертв? Я писал картины не затем, чтобы близкие прятали их от чужих глаз, точно святые мощи. Что мне за дело, как распорядятся Хавьер или Марианито своим именем, которое и мое тоже? Я был в друзьях у четырех королей, и последний, Желанный, сказал абсолютную правду: и он, и я — ничто. В лучшем случае стоим не меньше, но и не больше какого-нибудь нищего из той праздничной процессии, ибо в кровавом фарсе, который разыгрывает наша страна, все мы приговорены к одному проклятью. Нет, я писал картины не затем, чтобы близкие их свято чтили, и не я выбирал себе имя, перед которым бы расшаркивались. Имя и талант даны мне неведомыми силами, что выше моей воли. Я всегда писал только затем, чтобы знать: я жив; и хотелось бы верить, что так будет вечно, иначе не стоило жить. («А я-то мечтал, что ты состаришься и умрешь здесь, и я устрою тебе похороны, достойные Апеллеса. Твое тело установили бы на Пуэрта-де-Алькала, и королевские алебардщики с конницей несли бы почетный караул. До самой Вентас-дель-Эспириту-Санто стояли бы люди в очереди ночами, чтобы посмотреть на тебя, усопшего. Чернь одинаково сбегается на казни и на погребения. И то и другое для них — зрелище».) Слава богу, не выставят моего тела любопытной толпе на обозрение. Просто снесут на здешнее кладбище. Однако я надеюсь, что французская земля не будет ему последним прибежищем. Хорошо бы, перевезли в Мадрид. Не народу напоказ, а захоронить в церкви Сан-Антонио-де-ла-Флорида. Я и вправду не знаю, откуда у меня взялось такое желание, наверное, в том повинны законы перспективы и симметрии. В церкви Сан-Антонио-де-ла-Флорида впервые в жизни я писал так, как хотелось, и мне не осмелились бросить упрека. Другими словами, там я начал становиться тем, кто я есть, а до той поры не дерзнул бы этого сделать.
Интервал:
Закладка: