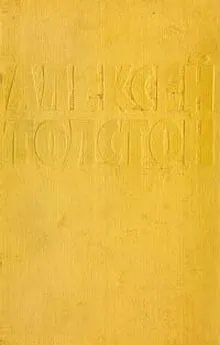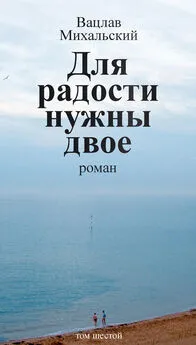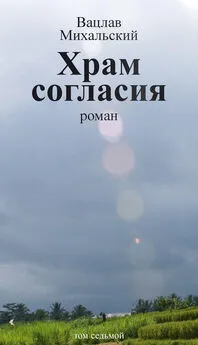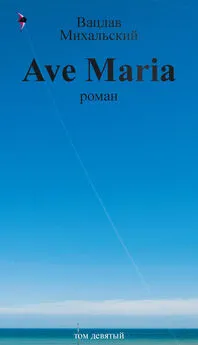Алексей Толстой - Собрание сочинений в десяти томах. Том 7
- Название:Собрание сочинений в десяти томах. Том 7
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное Издательство Художественной Литературы
- Год:1959
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Толстой - Собрание сочинений в десяти томах. Том 7 краткое содержание
Собрание сочинений в десяти томах. Том 7 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В «Записках де ля Невилля» (1689)) Алексей Толстой почерпнул многое для характеристики В. В. Голицына и его ближайшего окружения (см. книгу первую романа, главу II, подглавку 5). У Якова Номена в «Записках о пребывании Петра Великого в Нидерландах» писатель заимствовал ряд эпизодов заграничного путешествия Петра, главным образом относящихся к пребыванию его в Саардаме (книга первая романа, глава VII). Дневник Корба, секретаря цезарского посольства, свидетеля суровой расправы молодого Петра над стрельцами, очевидца кровавых казней 1698 года, широко использован был Алексеем Толстым в последней главе первого тома «Петра». (Толстой подчеркивал то обстоятельство, что Корб именно «своими глазами видел казни стрельцов»), В работе над рядом батальных эпизодов Северной войны писатель пользовался «Марсовой книгой» («Книга Марсова, или воинских дел от войск царского величества Российских во взятии преславных фортификацей, и на разных местах храбрых баталий, учиненных над войски его королевского величества Свейского», 1713), заимствовав, в частности, оттуда описание эпизода с «военной хитростью» — машкерадного боя под Нарвой 9 июня 1704 года (см. третью книгу романа, главу IV). В этой книге имелись старинные карты, планы отдельных баталий и, в частности, была гравюра, изображающая шведскую крепость Нотебург с ее грозными стенами, воротами и башнями с характерными крутыми кровлями.
В написании эпизодов, связанных с Екатериной, именно тех страниц романа, в которых показано приближение ее к Петру, А. Толстому оказала существенную помощь работа Андреева, напечатанная в историческом сборнике П. Бартенева «Осьмнадцатый век», кн. 3, 1869. Эта работа сводного характера, основанная на таких источниках, как Вилебуа, Вебер, Бассевич, Берхгольц, подсказала писателю ряд моментов биографии Екатерины начального периода ее жизни, вошедших впоследствии в главу V (подглавки 2 и 7).
Обширная литература была привлечена писателем при создании эпизодов о раскольниках (А. Щапов, «Русский раскол старообрядства»; Г. Есипов, «Раскольничьи дела XVIII столетня» и многое другое).
Немалую роль в процессе работы Алексея Толстого над романом играло широкое ознакомление его с иконографическим материалом, с портретами, картинами, гравюрами, картами, планами, относящимися к эпохе Петра. Все это, а также изучение другого рода исторических реалий — костюмов, мебели, архитектурных сооружений XVII–XVIII веков, — несомненно помогало писателю зрительно восстанавливать обстановку далекой исторической эпохи.
О том, как Алексей Толстой работал над историческими материалами, дают представление следующие примеры.
Эпизод казни женщины, убившей мужа, заживо зарытой в землю у Покровских ворот (книга первая романа, глава V), находим у И. Корба. Корб в своем «Дневнике» от 28 декабря протокольно скупо сообщает о беседе между гостями на вечере у полковника Блюмберга, в которой затронут был жестокий обычай казни женщин на Руси. В разговор вмешался царь, рассказавший во всеуслышание о том, что ему «самому известно, как одна женщина была не так еще давно приговорена к подобному наказанию и не прежде как по истечении 12 дней умерла с голоду». Дальше Корб добавляет к этому еще такую подробность: «Говорят, что сам царь ходил к ней в глубокую полночь и расспрашивал ее, думая, что, может быть, найдет возможность простить ее…» И дальше Корб нравоучительно, в моралистическом тоне заключает: «Но преступление ее было так велико, что прощение могло бы послужить дурным примером для других…»
Этот краткий протокольный рассказ вырос в романе до размеров большого типического обобщения — горькой судьбы, тяжелой доли русской женщины того времени (см. главу V, подглавку 4).
А. Толстой, исходя из документальных данных, следуя достоверным историческим фактам, делает их иногда основанием для создания образа вымышленного им персонажа. Таким является, например, в романе Василий Волков, одни из близких Петру молодых дворян. Писатель рассказывает о нем, что незадолго до рокового дня бегства Петра в Троицу Волков послан был из Преображенского в Кремль с поручением поразведать, что делают заговорщики; там Волкова хватают стрельцы, Софья угрожает ему казнью.
В основу этого эпизода легли некоторые реальные события, происшедшие как раз в то время с двумя различными лицами. Накануне заговора на разведку в Кремль послан был из Преображенского спальник царя Петра Плещеев. Страх же казни, угрозы Софьи пережил полковник Нечаев, приехавший к Софье от Петра уже позднее, после бегства царя в Троицу.
В дальнейшем течении романа, когда Волков оказывается в Амстердаме, А. Толстой рассказывает о нем, что он ведет дневник, записывая в него впечатления от разных увиденных им чудес и курьезов. Толстой приводит в данном случае подлинные записи сохранившегося от той эпохи «Журнала путешествия» (неизвестного русского дворянина), опубликованного в «Русской стариие» за 1879 год.
В «Петре Первом» показан талантливый механик-самоучка кузнец Жемов, пытавшийся построить воздухоплавательную машину — «дивную и чудесную механику» со слюдяными крыльями. Он был наказан за это жестоко боярином, бежал и пристал впоследствии к разбойничьей шайке Овдокнма.
Рассказ о подобном случае, имевшем место в Москве в 1695 году, находим у Желябужского в его «Записках»:
«Месяца апреля в 30-й день закричал мужик караул и сказал за собой Государево слово. И приведен в Стрелецкий Приказ и расспрашивай. А в расспросе сказал, что он, сделав крылья, станет летать как журавль. И, по указу Великих Государей, сделал себе крылья слюдяные, и стали те крылья в 18 рублев из государевой казны. И боярин князь Ив. Бор. Троекуров с товарищами и с иными прочими вышед стал смотреть. И тот мужик, те крылья устроя, по своей обыкности перекрестился, и стал мехи подымать, и хотел лететь, да не поднялся, и сказал, что он те крылья сделал тяжелы. И боярин на него кручинился, и тот мужик бил челом, чтоб ему сделать другие крылья иршеные (то есть из оленьей кожи). И на тех не полетел, а другие крылья стали в 5 рублев. И за то ему учинено наказанье: бит батоги, сняв рубаху, и те деньги велено доправить на нем и продать животы его и остатки…»
Сравнивая этот отрывок с тем, что дает А. Толстой в главе V, подглавке 10 первого тома «Петра», видим, что писатель этот эпизод создает на материале Желябужского.
Из этого же источника заимствовал писатель и описание шутовской свадьбы и свадебной процессии царского шута Тургенева, а также эпизоды укрепления Новгорода после нарвского разгрома.
Выступление патриарха Иоакима перед боярами и царем с требованием сжечь еретика Квирина Кульмана (книга первая романа, глава V) является переработкой подлинного исторического документа — «Духовной» патриарха Иоакима от 17 мая 1690 года. На основе одного из рассказов токаря Петра Первого Андрея Нартова («Рассказы о Петре Великом») строит писатель последний эпизод главы IV второй книги, эпизод о сокровищах в потайной кладовой Ромодановского, которые он передает Петру на нужды вооружения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: