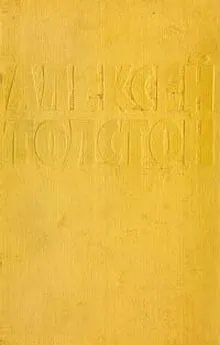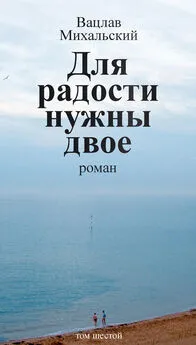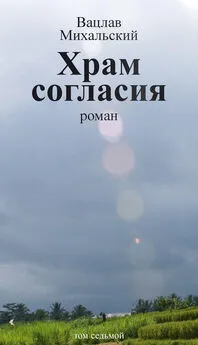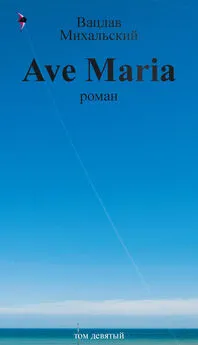Алексей Толстой - Собрание сочинений в десяти томах. Том 7
- Название:Собрание сочинений в десяти томах. Том 7
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное Издательство Художественной Литературы
- Год:1959
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Толстой - Собрание сочинений в десяти томах. Том 7 краткое содержание
Собрание сочинений в десяти томах. Том 7 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В письме Петра из-под Азова к Ф. М. Апраксину (от 29 августа 1694 г.) среди подписей близких к Петру преображенцев стоит одна комически звучащая фамилия «Вареной Мадамкин». Больше этот Мадамкин нигде в других исторических материалах не упоминается. У А. Толстого он — красочный персонаж, царский приближенный и собутыльник.
Еще подобный же пример: встреча Петра во время заграничного путешествия с немецкими курфюрстинами — Софией и Софией-Шарлоттой.
Толстой строит этот эпизод в соответствии с подлинными фактами, почерпнутыми из статейных списков Посольского приказа и из опубликованной переписки обеих принцесс. В одном из писем есть упоминание о том, что Петру не понравилась итальянская музыка; Петр «велел позвать своих скрипачей, и мы исполнили русские танцы». Этого беглого упоминания оказалось Алексею Толстому достаточно, чтобы создать яркую, исторически характерную сцену, заканчивающую все описание вечера в замке у курфюрстин.
Большую осторожность проявлял писатель, когда он сталкивался с необходимостью как-то использовать источники сомнительные, основанные на резко пристрастной, необъективной информации. Так третья книга «Петра» заканчивается тем, что к Петру после кровопролитного штурма Нарвы, после затянувшейся осады, вызванной бессмысленным сопротивлением шведов, приводят виновника всех этих напрасных жертв — коменданта Горна. Петр сурово встречает пленника, помня его недавние дерзкие ответы на предложение своевременно прекратить кровопролитие. Всю эту сцену А. Толстой дает в основном по Устрялову, у которого приводятся свидетельства об этом из русских и иностранных источников (Устрялов, История царствования Петра Великого, т. IV, стр. 313, 314). Но Устрялов принимает на веру свидетельство шведского историка Адлерфельда о том, что Петр будто бы дал Горну крепкую пощечину. Это утверждение, как недостоверное, А. Толстой отбрасывает.
Можно привести пример и своеобразного переосмысления, мотивированной трансформации А. Толстым документального материала. Отъезд Петра во время первой осады Нарвы А. Толстой объясняет пониманием царем того, что при большой вероятности поражения главную и решающую борьбу со шведами придется ему вести в будущем и что поэтому нельзя рисковать собой на самой первой стадии войны. Писатель приводит в романе официальный подлинный документ о передаче Петром (при отъезде) командования герцогу де Круи. Но уже в соответствии со своей трактовкой поведения Петра А. Толстой устраняет из этого документа место, где говорилось, что Петр «отъезжает для свидания и разговоров с королем польским», поскольку в тех обстоятельствах, накануне боя, эта фраза имела определенное «успокоительное» значение, а писателю в романе необходимо было прояснить главное стремление, руководившее Петром в этом случае.
Сам писатель отчетливо ощущал связь своих исторических зарисовок в «Петре» с непосредственным ощущением русской старины, которое поддерживалось в нем воспоминаниями детства, его глубоким знанием русской патриархальной провинции, деревни. «Если бы я родился в городе, — писал Алексей Толстой, — а не в деревне, не знал бы с детства тысячи вещей — эту зимнюю вьюгу в степях, в заброшенных деревнях, святки, избы, гадания, сказки, лучину, овины, которые особым образом пахнут, я, наверное, не мог бы так описать старую Москву. Картины старой Москвы звучали во мне глубокими детскими воспоминаниями. И отсюда появилось ощущение эпохи, ее вещественность. Этих людей, эти типы я потом проверял по историческим документам. Документы давали мне развитие романа, но вкусовое, зрительное восприятие, идущее от глубоких детских впечатлений, те тонкие, едва уловимые вещи, о которых трудно рассказать, — давали вещественность тому, что я описывал» (А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 414–415).
Помимо архивных документов и литературных источников, А. Толстой широко использовал при написании своего романа фольклорный материал. Интерес А. Толстого к русскому фольклору, глубокое знание им памятников народного творчества оставили заметный след в художественной ткани «Петра Первого». В романе множество фольклорных образов и мотивов. То мелькнет пословица, поговорка, острая народная шутка; то почувствуется отзвук народной песни или сказки; есть целые описания старинных обрядов. Поскольку в своем романе А. Толстой старался полнее показать народ, дать народную жизнь в ее широком разливе, постольку он, естественно, обращался к фольклору, в котором столь ярко запечатлелся самый духовный склад, богатый внутренний мир русского человека. Фольклорные образы в повествовании А. Толстого органически входят в основную художественную ткань, образуя с ней неразрывное целое.
Некоторые исторические песни, как, например, песни о завоевании Азова, о строительстве Воронежского флота, о взятии Шлиссельбурга, о прорытии Ладожского канала, об основании на Неве новой столицы (см. «Песни, собранные П. В. Киреевским», вып. 8, 9), особенно заметно использованы были писателем в его произведении. Они дали возможность ему отразить отношение народных масс к событиям петровского царствования, помогли в осмыслении общего характера эпохи, в уяснении роли изображаемых им событий и исторических лиц.
Большой отпечаток наложил фольклор и на общий склад повествования в романе, местами необычайно близкий к народной речи.
Работе над языком своего исторического романа А. Н. Толстой придавал исключительно большое значение. Еще в 1929 году, в одной написанной им статье, он подробно рассказывал о том, как старинные судебные документы XVII века оживили его интерес к народному языку, привели его к широкому использованию богатств живой народной речи.
«В конце 16-го года покойный историк В. В. Каллаш, узнав о моих планах писать о Петре I, снабдил меня книгой: это были собранные проф. Новомбергским пыточные записи XVII века, — так называемые дела «Слова и дела»… И вдруг моя утлая лодчонка выплыла из непроницаемого тумана на сияющую гладь… Я увидел, почувствовал, — осязал: русский язык… Дьяки и подьячие Московской Руси искусно записывали показания, их задачей было сжато и точно, сохраняя все особенности речи пытаемого, передать его рассказ. Задача в своем роде литературная. И здесь я видел во всей чистоте русский язык, не испорченный ни мертвой церковно-славянской формой, ни усилиями превратить его в переводную (с польского, с немецкого, с французского), ложно-литературную речь. Это был язык, на котором говорили русские лет уже тысячу, но никто никогда не писал… В судебных (пыточных) актах — язык дела, там не гнушались «подлой» речью, там рассказывала, стонала, лгала, вопила от боли и страха народная Русь. Язык чистый, простой, точный, образный, гибкий, будто нарочно созданный для великого искусства» (А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 567).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: