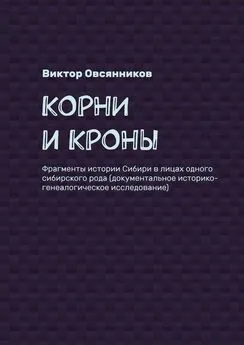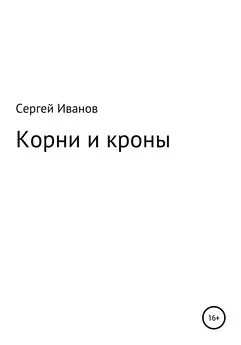Виктор Овсянников - Корни и кроны. Фрагменты истории Сибири в лицах одного сибирского рода (документальное историко-генеалогическое исследование)
- Название:Корни и кроны. Фрагменты истории Сибири в лицах одного сибирского рода (документальное историко-генеалогическое исследование)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449620774
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Овсянников - Корни и кроны. Фрагменты истории Сибири в лицах одного сибирского рода (документальное историко-генеалогическое исследование) краткое содержание
Корни и кроны. Фрагменты истории Сибири в лицах одного сибирского рода (документальное историко-генеалогическое исследование) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А «государева служба» почти сплошь и рядом являлась вершиной добровольного самоуничижения. Не зря А. С. Грибоедов подметил о обыграл связь слов «служить» и «прислуживать». С какой нежностью и любовью описано в русской литературе множество верных слуг, нянек и мамок, дядек и денщиков! И, наконец, наше русское (особенно расцветшее в советский период) подобострастное отношение к разного рода прислуге, работникам сферы обслуживания – официантам, таксистам, уборщицам, продавцам. Мы, как никакая другая нация, готовы были унижаться перед ними, поменяться с ними ролями, а они, понимая это, упивались своей неограниченной властью над нашим раболепским сознанием.
Нельзя сказать, что эти и многие другие пороки присущи исключительно русскому народу. Известно, что и в Европе средних веков процветали грубость и жестокость нравов, но к описываемому нами периоду они постепенно уходили в прошлое. На Руси же пороки «мрачного средневековья» еще очень долго «правили» во всех слоях общества.
«В атмосфере непрерывной резни складываются типичные черты красноярского служилого человека 17-го века: склонность к своеволию и буйству, жестокость и падкость до наживы и – выше всего – вольнолюбие, дух непокорства и независимости. » 14 14 С.В.Бахрушин. Научные труды, т. 4. М. 1959, с. 12.
Вот ещё одно свидетельство о сибирских нравах того времени:
«…Прослышала она, что митрополита Сибирского и Тобольского домовые дети боярские митрополичьими десятниками в разные сибирские города посылаются и там бесхозных девок и вдов к разным пакостям принуждают, а иных, догола раздев, груди им до крови давят и прочие гадости силою творят, грозятся в блядню упрятать и продают разным никчемным людям, и деньги себе берут…» 15 15 Акты исторические, собранные и изданные археологической комиссией. Т. 5, С-П. 1842. С. 496.
Но прервёмся ненадолго в разговоре о нравах. Речь у нас пойдет о некоторых фрагментах истории Красноярска и прилегающих к нему территорий. Красноярск, основанный русскими казаками в первой половине 17-го столетия, и по наше время сохранил особую прелесть окружающих ландшафтов.
Почти вплотную к городу с юго-западной стороны подступают отроги Саянских гор, откуда собственно и течет Енисей. Здесь это невысокие горы, покрытые сплошь тайгой. У Красноярска отроги Саян почти обрываются и дальше, вниз по Енисею, в северном направлении горы постепенно заканчиваются. А со стороны левого берега и устья речки Качи гор и таежной растительности почти нет – небольшие холмы и ровные долины, которые в прежние времена были, вероятно, гораздо лесистее, покрытые сибирской тайгою.
Описывать природные красоты Красноярска и окрестностей можно очень долго, но не менее интересен исторический и человеческий «ландшафт» этого края, чему и будет уделено основное наше внимание.
Практически поголовным явлением в чиновничьих кругах Сибири того времени (не только Сибири и не в то лишь время) было мздоимство и казнокрадство. Почти каждый третий начальник высокого ранга был судим за такие грехи, некоторые казнены, как например, уже в правление Петра Первого сибирский губернатор князь Матвей Петрович Гагарин, которого мы тоже слегка коснемся в наших историях. Следует признать, что воровство было и остается важнейшей особенностью национальной культуры, как теперь принято говорить, «национальной скрепой».
Русские, особенно те из простолюдинов, которые вышли в знатные люди по счастью или по богатству, в какой-нибудь службе или должности, чрезвычайно высокомерны и горды. Хоть и государевы холопы – сибирский служилый люд, да не чета московской царевой челяди. Воля сибирская в кровь и плоть проникла вместе с особой дурью, поголовным пьянством, особенным казачьим зазнайством, гордыней сибирской, вседозволенностью, от государевой власти далекой. Особый сибирский характер слепливался не сразу, опыт жизни «на отшибе» обретался столетиями. Однако уже с начала 17-го века свойства «особых контингентов» сибирского казачества, а также шедших за ним не по своей воле ссыльнопоселенцев, беглых крепостных крестьян и прочих, как бы сегодня сказали, маргиналов и авантюристов – все это формировало особую человечью среду.
Особой непокорностью до необузданности сразу прославились красноярцы. Не зря их прозвали «бунтовщиками». Задолго до описываемых ниже событий конца 17-го столетия известны были они своей строптивостью и жестокостью.
В 1629 году, почти сразу после основания города и постройки острога на Красном Яре Андреем Дубенским, взбунтовались казаки от недостатка хлеба и других припасов. Справляться с продовольственными трудностями своими силами они ещё не научились: своими огородами и пашенными крестьянами обзавестись не успели, навыков выживания в тайге не освоили в полной мере. А тут незадачка вышла. При вечном российском бардаке не организовало начальство завоз продовольствия. Сами красноярцы не позаботились, да и некогда им было туда-сюда мотаться – новый острог обустраивали, и начальство это знало. Голод терпели, ждали. А казакам Енисейского острога в облом стало задарма печься о соседях-конкурентах по «местному кормлению» и грабежам (то бишь, ясачному оброку) коренного таежного населения.
Жертвой нелепого конфликта оказался Иван Олфимович Кольцов (иногда его звали Яковом) – первый красноярский атаман пешей сотни, пришедший на Красный Яр вместе с Андреем Дубенским. А тут оплошал боевой командир: привез красноярцам годовое жалование, но не привез провианту.
Воевода Дубенский выгнал из приказной избы вернувшегося из Енисейска без хлеба атамана. Казаки восприняли это как показатель вины Кольцова, потащили его на городскую площадь и стали бить. Забили до смерти, а труп атамана сбросили в речку Качу.
Пришлось красноярцам самим отправляться в Енисейск за провиантом, а заодно в тайне сговорились пограбить на Ангаре подвластных Енисейскому острогу ясачных людишек, убить воеводу, разграбить город и по Оби через Березов пробраться в Россию на родину.
С молчаливого согласия воеводы, которому обо всех своих планах заговорщики не докладывали, почти половина красноярского гарнизона покинула место службы и отправилась вниз по Енисею. В первых числах июля 130 красноярцев внезапно появились у стен Енисейского острога. По плану красноярцев, несколько человек должны были проникнуть в острог и, напав на караул, открыть ворота. Но енисейцы заподозрили недоброе. Они позволили нескольким бунтовщикам войти, после чего их разоружили и арестовали.
Выяснить полностью замысел красноярцев у пленников удалось не сразу: даже пытки не приносили результата. Битье кнутом и прижигание раскаленным железом они выдерживали. Тогда было решено внести разнообразие в процесс пытки: им обрили наголо головы и стали лить студеную воду. Только так удалось вырвать подтверждение сведений о «воровском умысле». Предпринятая красноярцами попытка штурма острога была быстро пресечена: залп из всех четырех острожных пушек и пищалей охладил пыл бунтовщиков не хуже ледяной воды, остудившей головы их пленных товарищей. Не рискнули они идти на дальнейшее безрассудство. Оставалось только продолжить грабежи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: