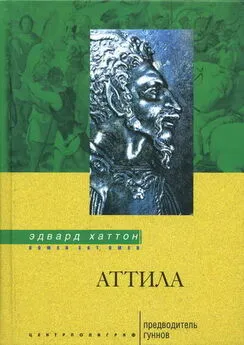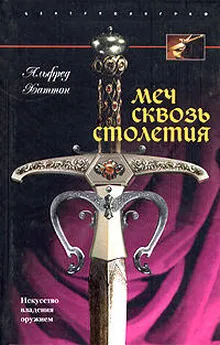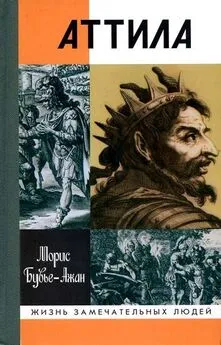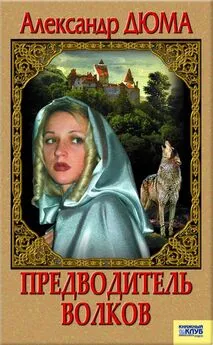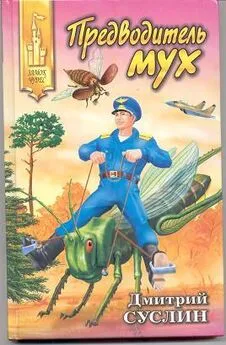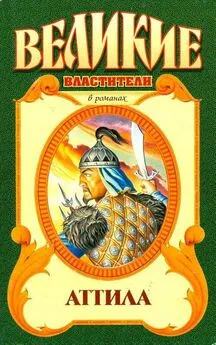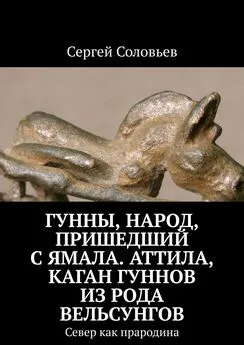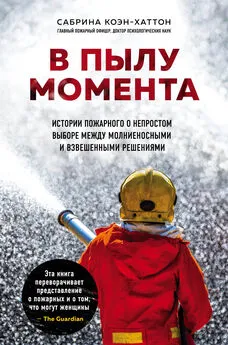Эдвард Хаттон - Аттила. Предводитель гуннов
- Название:Аттила. Предводитель гуннов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-9524-1902-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдвард Хаттон - Аттила. Предводитель гуннов краткое содержание
Аттила, предводитель гуннов, был великим полководцем. Армия гуннов никогда не имела обременительных обозов, поскольку все необходимое им на войне безжалостные завоеватели возили на лошадях, остальное добывалось в сражениях. Большинство древних историков считает Аттилу жестоким варваром, всю жизнь стремившимся сокрушить христианский мир. Однако умалять или умалчивать его полководческие заслуги никто из них не решается.
Аттила. Предводитель гуннов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И из личных интересов, и из признательности он старательно поддерживал дружеские сношения с гуннами. В то время как он жил в их палатках в качестве заложника и в качестве изгнанника, он был в близких отношениях с племянником своего благодетеля самим Аттилой; эти два знаменитых антагониста, как кажется, были связаны узами личной дружбы и военного товарищества, которые были впоследствии скреплены обоюдными подарками, частыми посольствами и тем, что сын Аэция Карпилион воспитывался в лагере Аттилы. Изъявлениями своей признательности и искренней привязанности патриций старался прикрывать опасения, которые внушал ему скифский завоеватель, угрожавший обеим империям своими бесчисленными армиями. Требования Аттилы Аэций или удовлетворял, или устранял под благовидными предлогами. Когда тот заявил свои притязания на добычу завоеванного города, — на какие-то золотые сосуды, захваченные обманным образом, — гражданский и военный губернаторы Норика были немедленно командированы с поручением удовлетворить его желания, [68] Это посольство состояло из графа Ромула, из президента Норика Промота и военного герцога Романа. Их сопровождал знатный гражданин из находившегося в той же провинции города Петовио Татулл, отец Ореста, женатого на дочери графа Ромула (см.: Приск, с. 57, 65). Кассиодор ( Variorum , IV) упоминает о другом посольстве, которое состояло из его отца и Аэциева сына Карпилиона, а так как в ту пору Аттилы уже не было в живых, то послы могли безопасно хвастаться неустрашимостью, выказанной ими при свидании с царем гуннов.
а из разговора, происходившего у них в царской деревне с Максимином и Приском, видно, что ни мужество, ни благоразумие Аэция не спасли западных римлян от позорной необходимости уплачивать дань. Впрочем, изворотливая политика Аэция продлила пользование выгодами мира, а многочисленная армия гуннов и аланов, которым он успел внушить личную к себе привязанность, помогала ему в обороне Галлии. Две колонии этих варваров он предусмотрительно поселил на территориях Валенсии и Орлеана, [69] «Deserta Valentinae urbis rura Alanis partienda traduntur» ( Хроника Проспера Тиро в Historiens de France , т. I. с. 639). Несколькими строками ниже Проспер замечает, что для аланов были отведены земли в Галлии ulterior . Основательное предположение, что существовали две колонии или два гарнизона аланов, подтвердит доводы Дюбо и устранит его возражения, не требуя согласия на его поправки (т. I, с. 300).
а их ловкая кавалерия оберегала важные переправы через Рону и Луару. Правда, эти варварские союзники были не менее страшны для подданных Рима, чем для его врагов. Они расширяли свои первоначальные поселения путем необузданных насилий, а провинции, через которые они проходили, терпели все бедствия неприятельского нашествия. [70] См.: Проспер Тиро, с. 639. Сидоний Аполлинарий ( Раnegyr. Avit. , 246) высказывает следующие жалобы от имени своей родины Оверни: Litorius Scythicos equites tunc forte subacto Celsus Aremorico, Geticum rapiebat in agmen Per terras, Arverne, tuas, qui proxima quaeque Discursu, flammis, ferro, feritate, rapinis, Delebant; pacis fallentes nomen inane. Другой поэт, Павлин из Перигора, подтверждает эти жалобы (см.: Дюбо, т. I, с. 330): Nam socium vix ferre queas, qui durior hoste.
Не имея ничего общего ни с императором, ни с республикой, поселившиеся в Галлии аланы были преданы лишь честолюбивому Аэцию, и, хотя он мог опасаться, что в случае борьбы с самим Аттилой они снова станут под знамя своего национального повелителя, патриций старался не разжигать, а сдерживать их ненависть к готам, бургундам и франкам.
Королевство, основанное визиготами в южных провинциях Галлии, мало-помалу окрепло и упрочилось, а поведение этих честолюбивых варваров как в мирное, так и военное время требовало постоянной бдительности со стороны Аэция. После смерти Валлии готский скипетр перешел к сыну великого Алариха [71] Сын Теодорида Теодорих объявил Авиту о своей решимости исправить или загладить ошибки, сделанные его дедом. Quae noster peccavit avus, quem fuscat id unum, Quod te, Roma, capit. Сидоний Аполлинарий, Panegyr. Avit. , 505 Эти черты, применимые только к великому Алариху, устанавливают генеалогию готских царей, но до сих пор оставлялись без внимания. [Нет никаких указаний на то, что Атарих оставил после себя сына, а употребленное Сидонием Аполлинарием выражение так неопределенно, что из него нельзя делать такого вывода. Феодосий I был пожилым человеком в 451 г., когда он пал в битве при Шалоне («matura senectute», Иордан, гл. 40). Если бы он был законным наследником престола, его не заменил бы в 410 г. его дядя Адольф, а в 415 г. Валлия. — Изд. ]
Теодориду, а благополучное, продолжавшееся более тридцати лет царствование Теодорида над буйным народом может быть принято за доказательство того, что его благоразумие опиралось на необычайную энергию, и умственную и физическую. Не довольствуясь тесными пределами своих владений, Теодорид пожелал присоединить к ним богатый центр управления и торговли — Арль, но этот город был спасен благодаря благовременному приближению Аэция; а после того как готский царь был вынужден снять осаду не без потерь и не без позора, его убедили принять приличную субсидию с тем условием, что он направит воинственный пыл своих подданных на войну в Испании. Тем не менее Теодорид выжидал благоприятную минуту для возобновления своей попытки и, лишь только она представилась, немедленно ею воспользовался. Готы осадили Нарбонну, меж тем как бельгийские провинции подверглись нападению бургундов, и можно было подумать, что враги Рима сговорились одновременно напасть на империю со всех сторон. Но деятельность Аэция и его скифской кавалерии оказала со всех сторон мужественное и успешное сопротивление. Двадцать тысяч бургундов легли на поле сражения, и остатки этой нации смиренно согласились поселиться среди гор Савойи в зависимости от императорского правительства. [72] У Аммиана Марцеллина впервые встречается название Sapaudia , от которого произошло название Савойи, a Notitia удостоверяют, что в этой провинции содержались два военных поста; в Гренобле, в Дофинэ, стояла одна когорта, а в Эбредунуме, или Ивердоне, стоял флот из мелких судов, господствовавший на Невшательском озере (см.: Валуа, Notit. Galliarum , с. 503; Анвилль, Notice de l'Ancienne Gaule , с. 284–579).
Стены Нарбонны сильно пострадали от осадных машин и жители уже были доведены голодом до последней крайности, когда граф Литорий неожиданно подошел к городу и, приказав каждому кавалеристу привязать к седлу по два мешка муки, пробился сквозь укрепления осаждающих. Готы немедленно сняли осаду и лишились восьми тысяч человек в более решительном сражении, успех которого приписывался личным распоряжениям самого Аэция. Но в отсутствие патриция, торопливо отозванного в Италию какими-то общественными или личными интересами, главное начальство перешло к графу Литорию; его самоуверенность скоро доказала, что для ведения важных военных действий требуются совершенно иные дарования, чем для командования кавалерийским отрядом. Во главе армии гуннов он опрометчиво приблизился к воротам Тулузы с беспечным пренебрежением к такому противнику, который научился в несчастьях осмотрительности и находился в таком положении, что был доведен до отчаяния. Предсказания авгуров внушили Литорию нечестивую уверенность, что он с триумфом вступит в столицу готов, а доверие к его языческим союзникам побудило его отвергнуть выгодные мирные условия, которые были неоднократно предложены ему епископами от имени Теодорида. Король готов, напротив того, выказал в этом бедственном положении христианское благочестие и умеренность и только для того, чтобы готовиться к бою, отложил в сторону свою власяницу и пепел, которым посыпал свою голову. Его солдаты, воодушевившись и воинственным и религиозным энтузиазмом, напали на лагерь Литория. Борьба была упорна, и потери были значительны с обеих сторон. После полного поражения, которое могло быть приписано только его неспособности и опрометчивости, римский генерал действительно прошел по улицам Тулузы, но не победителем, а побежденным, а бедствия, испытанные им во время продолжительного нахождения в позорном плену, возбуждали сострадание даже в варварах. [73] Сальвиан попытался объяснить нравственное управление Божества; чтобы выполнить эту задачу, стоит только предположить, что бедствия, постигающие негодных людей, суть обвинительные приговоры, а бедствия, постигающие людей благочестивых, суть испытания.
В стране, давно уже истощившей и свое мужество, и свои финансы, было нелегко загладить такую потерю, и готы, в свою очередь воодушевившиеся честолюбием и жаждой мщения, водрузили бы свои победоносные знамена на берегах Роны, если бы присутствие Аэция не ободрило римлян и не восстановило среди них дисциплину. [74] …Capto terrarum damna patebant Litorio, in Rhodanum proprios producere fines, Theudoridae fixum; nec erat pugnare necesse, Sed migrare Getis; rabidam trux asperat iram Victor, quod sensit Scythicum sub moenibus hostem Imputat, et nihil est gravius, si forsitan unquam Vincere contingat, trepido… Panegyr. Avit. , 300 Затем Сидоний Аполлинарий, по долгу панегириста, приписывает все заслуги не Аэцию, а его министру Авиту.
Обе армии ожидали сигнала к решительной битве, но каждый из главнокомандующих сознавал силу своего противника и не был уверен в своем собственном превосходстве; поэтому они благоразумно вложили свои мечи в ножны на самом поле сражения, и их примирение было прочным и искренним. Король визиготов Теодорид, как кажется, был достоин любви своих Подданных, доверия своих союзников и уважения человеческого рода. Его трон был окружен шестью храбрыми сыновьями, с одинаковыми старанием изучавшими и упражнения варварского лагеря, и то, что преподавалось в галльских школах: изучение римской юриспруденции познакомило их по меньшей мере с теорией законодательства и отправления правосудия, а чтение гармоничных стихов Вергилия смягчило врожденную суровость их нравов. [75] Теодорих уважал в лице Авита своего наставника. …Mihi Romula dudum Per te jura placent: parvumque ediscere jussit Ad tua verba pater, dociti quo prisca Maronis Carmine molliret Scythicos mini pagina mores. Сидоний Аполлинарий, Panegyr. Avit. , 495
Две дочери готского короля были выданы замуж за старших сыновей тех королей свевов и вандалов, которые царствовали в Испании и в Африке, но эти блестящие браки привели лишь к преступлениям и к раздорам. Королеве свевов пришлось оплакивать смерть мужа, безжалостно убитого ее братом. Вандальская принцесса сделалась жертвой недоверчивого тирана, которого она называла своим отцом. Жестокосердый Гензерих заподозрил жену своего сына в намерении отравить его; за это воображаемое преступление она была наказана тем, что у нее отрезали нос и уши, и несчастная дочь Теодорида была с позором отправлена назад в Тулузу в этом безобразном виде. Этот бесчеловечный поступок, который показался бы неправдоподобным в цивилизованном веке, вызывал слезы из глаз каждого зрителя, но Теодорид и как отец и как царь захотел отомстить за такое непоправимое зло. Императорские министры, всегда радовавшиеся раздорам между варварами, охотно снабдили бы готов оружием, кораблями и деньгами для африканской войны, и жестокосердие Гензериха могло бы оказаться гибельным для него самого, если бы хитрый вандал не привлек на свою сторону грозные силы гуннов. Его богатые подарки и настоятельные просьбы разожгли честолюбие Аттилы, и вторжение в Галлию помешало Аэцию и Теодориду привести в исполнение их намерения. [76] При описании царствования Теодорида авторитетами служат для нас: Иордан, De Rebus Geticis (гл. 34–36), Хроники Идация и два Проспера, произведения которых помещены в первом томе Historiens de France (с. 612–640). К этим источникам мы можем прибавить Сальвиана ( De Gubernatione Dei , IV, 243–245) и написанный Сидонием Аполлинарием Панегирик Авита .
Интервал:
Закладка: