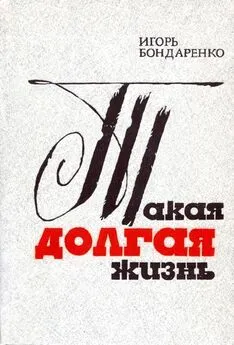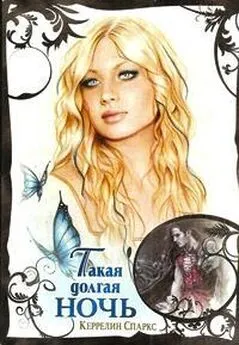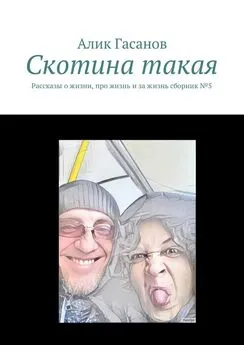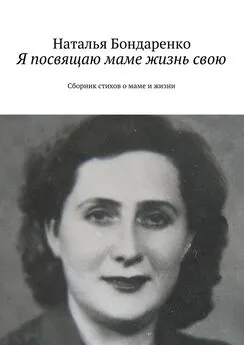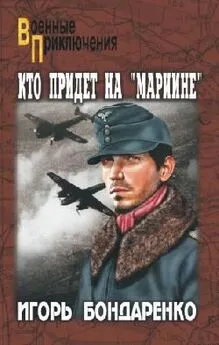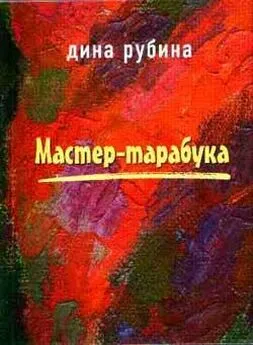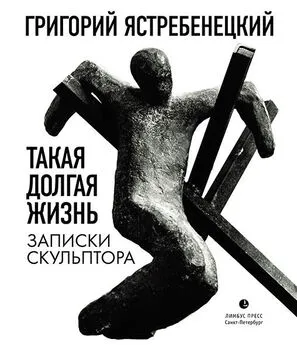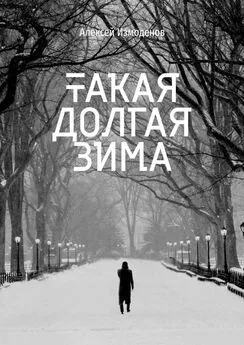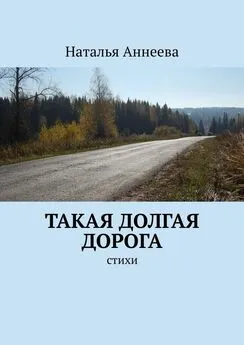Игорь Бондаренко - Такая долгая жизнь
- Название:Такая долгая жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:5-265-01055-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Бондаренко - Такая долгая жизнь краткое содержание
Такая долгая жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Из школ тюрьмы сделали, — обронил кто-то тихо неподалеку от Володи.
На рассвете снова уже знакомые ненавистные слова:
— Ауфштейн! Лёс! Шнелль!..
Теперь их выкрикивали немецкие солдаты в зеленых мундирах. Им и было поручено доставить «живой груз» в Германию. Это были солдаты-отпускники. Добровольцы. Дорога им не засчитывалась. «Чистый» отпуск начинался по прибытии в Германию.
В теплушки набивали под завязку. Один вагон шел с охраной и продуктами. В теплушках нары как соты: использовался каждый сантиметр площади.
Двери перед отправлением закрыли на железный засов. В вагоне было четыре оконца: два — с одной стороны, почти по углам в верхней части, а два — с другой. На оконцах прочные железные решетки — все продумано.
Было два вагона семейных: мать с сыном или с дочерью, муж с женой, брат и сестра. Были и такие, кто выдал себя за семейных, беда быстро сближает: ночевали в каких-то селах по дороге, потом, уже под самым Мариуполем, в небольшом хуторе, затем в Мариуполе в бывшей школе, и люди нашли друг друга, решили, вдвоем будет легче, объединились, выдали себя за «семейных». Почему нет? Документов у них никаких нет и не будет. В Германии им присвоят «номера». Немного позже выдадут кусок картона в целлулоиде с железной оправой. На картоне, правда, будет имя и фамилия, год рождения и откуда родом. И, конечно, номер. Он теперь важнее имени, важнее всего остального. А внизу четким шрифтом будет написано: «Не оставлять без надзора местной полиции даже на работе».
Но все это будет там, в Германии. Здесь же, в пути, в вагонах, у них нет даже номеров, и те, кому суждено умереть в пути, умрут безымянными. Ни могилы, ни гроба. Придорожная канава, и все…
В вагоне жарко, душно. Дышать совершенно нечем. Но это были молодые люди. У них здоровые легкие, здоровое сердце. Попадались, правда, люди пожилые. Тем было совсем худо. Они-то в основном и помирали.
Володе досталось место в углу на верхних нарах, неподалеку от окна. Снаружи, особенно по ночам, пахло жизнью: травой, деревьями, землей, паровозным дымком.
Он все еще был оглушен, ошарашен, придавлен и никак не мог понять: зачем такая жестокость, в чем все они провинились? И ему казалось, что хуже того, что есть, быть не может. Но так только казалось.
В Перемышле, на границе, их эшелон простоял почти сутки. Здесь была баня, прожарка одежды, дезинфекция.
Баня была горячей, раскаленной, как духовка. Раскаленными были крючки, на которые они вешали одежду, горячими были деревянные полки, на которых они сидели, нестерпимо горячей была вода, лившаяся из кранов, обжигающими были резиновые дубинки, которые пускали в ход надсмотрщики за малейшую провинность и просто так, для острастки, для собственного удовольствия. По голому мокрому горячему телу удары были нестерпимо болезненными.
Влажная одежда отвратительно воняла дезинфекционным раствором. На мокрое тело напяливать ее было трудно — не лезла, и все, а замешкался — тут как тут надсмотрщик с резиновой дубинкой, и уже к новым ненавистным словам пришлось привыкать:
— Руссише швайне! Шайзе!.. [49] Русские свиньи! Дерьмо! (нем.)
И казалось Володе, будто весь немецкий язык состоял только из этих слов: «Лёс! Шнелль! Ауфштейн! Руссише швайне! Шайзе!..»
Миновали Перемышль. В каком-то городе в Польше давали горячую пищу — баланду из картофельных очисток и «каву» (кофе). Ничего общего с кофе, конечно, эта коричневая бурда не имела. Из чего она приготовлялась, никто даже догадаться не мог. О «каве» можно было сказать только, что она мутно-коричневая и горьковатая. Один, черненький такой, как оказалось, учитель из Киева (там подсадили большую группу), вылил эту «каву» к чертовой матери прямо на рельсы. Это, конечно, было неосмотрительно. Даже как бы демонстративно. Тут же подбежал раздатчик — местный, не то поляк, не то украинец. Он кричал на каком-то тарабарском языке и — черпаком по голове учителя. Ничего «лучшего» под рукой у раздатчика не оказалось. Резиновую дубинку, видно, ему еще не выдали.
Все, что происходило с ними в дороге, было похоже на сон с тяжелыми видениями. И во сне Володя видел то, что наяву. Сон и явь перемешались.
Где-то на исходе второй недели эшелон их подошел к предместьям большого города.
Огромные рекламные щиты, свастики на флагах, портреты Гитлера. Кто-то громко сказал: «Берлин». И зашелестело по вагону: «Берлин!», «Берлин!»
Берлин был по-казарменному чистым и опрятным. Железная дорога (штадтбан) проходила через город, шла на уровне второго или даже третьего этажа. Сверху хорошо все видно. Светило яркое солнце, и все было залито светом, но и солнце не давало городу многоцветья: дома в основном были серыми, закопченными, люди одеты добротно, но однообразно — нет ярких платьев, нет ярких расцветок — все темное, серое.
Попадались на пути каналы. Вода в них тоже какая-то тусклая, совсем не похожая на ту, которую Володя привык видеть в Азовском море — ярко-бутылочного цвета. Через каналы — мосты с чугунными перилами, украшенными вязью. Все пахло чужбиной.
В Берлине их эшелон не остановился. Пройдя через город, повернул на север.
Природа здесь была красивой: ярко-зеленые леса, живописные полянки, на которых алело множество маков, небо в светло-синих нежных тонах. Но красота эта была тоже чужой, она не радовала ни глаз, ни сердце.
Уже почти в сумерках их эшелон достиг какой-то станции и остановился. С полчаса стояли не двигаясь. Дверей не открывали. Володя лежал у окна и все видел, что делалось снаружи, на перроне.
Солдаты прохаживались, разминали ноги, громко разговаривали, смеялись, радовались, что на родине и скоро попадут домой.
Володя прочитал надпись над вокзалом: «Росток», и она его поразила. Почти Ростов!.. Всего одна буква… Он уже где-то слышал это название. И тут он вспомнил: от дяди Пантелея… Дядя Пантелей приезжал сюда в командировку и рассказывал потом… Так вот куда его забросило, так вот куда он попал!..
Подъехал грузовик, набитый людьми в полицейской форме. Большинство было пожилых, но попадались и молодые.
Заскрипели несмазанные двери, и раздались знакомые, ненавистные слова:
— Русс! Лёс! Шнелль!
У вахманов на привязях, на кожаных ремешках, огромные откормленные овчарки. Их презрительно-равнодушный взгляд скользил по людям с чужим запахом. Но стоило только услышать команду хозяина, как темно-серая шерсть на спине собак вставала дыбом. Оскалялась звериная пасть, мутной кровью наливались глаза, и спусти овчарку хозяин в этот миг на человека — разорвет.
Новое словечко долетело до Вовкиных ушей: «Фир!» (Четыре, по четыре! Стадо! Свиньи!)
Не все еще понимают это слово, толкутся, сбиваются в кучу, шарахаются от резиновых дубинок, которые заплясали в воздухе и, конечно, по головам, и плечам, и по чем попадя. И откуда взялись эти резиновые дубинки, только что в руках у вахманов ничего не было? А хитрость оказалась простой: дубинка пряталась в рукаве. Как-то там она хитро, по-немецки, прицеплялась. Не таскать же ее в руке все время. Дубинка гибкая, не мешает. А когда надо, выскальзывает из рукава, как змея.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: