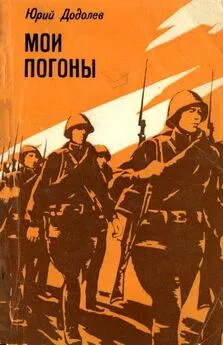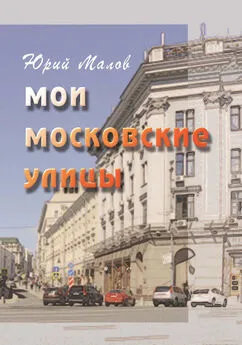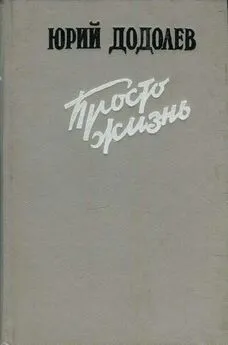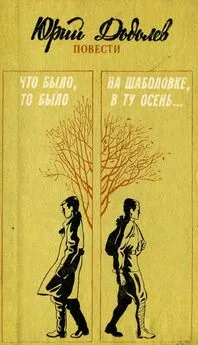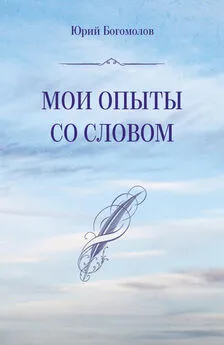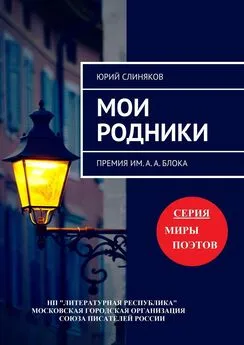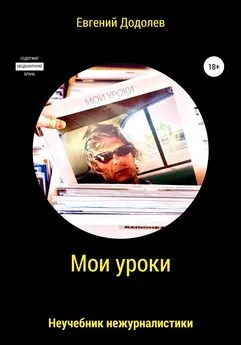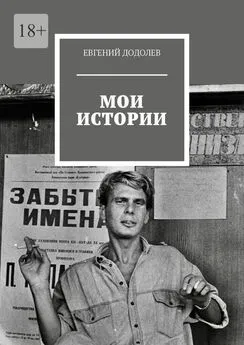Юрий Додолев - Мои погоны
- Название:Мои погоны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1974
- Город:Москва
- ISBN:Советская Россия
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Додолев - Мои погоны краткое содержание
«Мои погоны» — вторая книга Ю. Додолева, дебютировавшего два года назад повестью «Что было, то было», получившей положительный отклик критики. Новая книга Ю. Додолева, как и первая, рассказывает о нравственных приобретениях молодого солдата. Только на этот раз события происходят не в первый послевоенный год, а во время войны. Познавая время и себя, встречая разных людей, герой повести мужает, обретает свой характер.
Мои погоны - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Такие же одеяла — грубошерстные, серые, с красными поперечными линиями, очень колкие были накинуты на головы других раненых — с забинтованными лицами. Бинты, и особенно уложенная под ними вата, делали наши головы неестественно большими: шапки прикрывали только макушки, поминутно сваливались с них. Видимо, поэтому на нас и накинули одеяла.
В Горьком с санпоезда ссадили только тех, кто был ранен в лицо. До этого я и не представлял, что в Горьком есть челюстно-лицевой эвакогоспиталь, в котором вставляют «мосты», производят пластические операции.
Мысли о ранении в челюсть не давали мне покоя. Я был уверен, что мое лицо обезображено, и все время думал: «Лучше бы в ногу или руку ранило». Спрашивал у медсестер:
— Неужели уродом буду?
Сестры улыбались:
— Только шрамик останется. Любая девушка с первого взгляда поймет — фронтовик.
«Это хорошо», — успокаивался я. Мне хотелось спросить сестер — стали бы они встречаться с парнем, у которого на лице шрам, но я почему-то не осмеливался задать им этот вопрос.
Я так часто надоедал сестрам, что одна из них — тоненькая, подвижная, в накрахмаленном до хруста халате и марлевой косынке, из-под которой выглядывали бойкие, смышленые глаза, — подарила мне маленькое зеркальце. Я подносил его к лицу, но ничего не видел, кроме пухлой повязки, торчащего из нее носа и лихорадочно блестевших глаз.
Я ехал в автобусе и думал: «Хорошо бы увидеть рану и вымыть голову». Голова чесалась, в санпоезде повязку с лица не снимали: врачи, видимо, боялись внести в рану инфекцию.
Баня в челюстно-лицевом госпитале оказалась классной — с ванными. В предбаннике с раненых сняли повязки и я, наконец, увидел свою рану — багровый рубец с гнойными точками. По сравнению с другими моя рана выглядела пустяковой. Врач-стоматолог — грузный, с засученными рукавами — подтвердил это, сказав:
— Дешево отделался, парень. Челюсть повреждена и остеомиелитик небольшой. Подчистим, подправим, отремонтируем. Зубы новые вставим, и будешь ты — жених.
Мыли нас женщины — не очень молодые, но и не старые. Одинаковые серые халаты и такие же шапочки делали их похожими одна на другую.
Я стыдился своей наготы, прикрывался ладошкой. То же самое делали и другие парни. Одна из женщин взглянула на меня и усмехнулась. Я покраснел, повернулся к ней голым задом; потом решил, что это еще хуже, и, не найдя ничего лучшего, встал к женщине боком.
Женщина снова усмехнулась, а старик солдат, раненный в подбородок и выражением глаз очень похожий на Петровича, сказал:
— Чего, парень, как юла, вертишься? Видали они это сто, а может, тыщу раз. Тут нашего брата, раненых, за войну столько перебывало, что и не счесть. Незачем своей наготы стесняться: ведь ты не балуешься, а… — Старик хотел еще что-то добавить, но, видно, не нашел подходящего слова.
— Верно. — Женщина кивнула. Обратившись ко мне, спросила: — Сам будешь мыться или помочь?
— Сам, сам, — заторопился я.
— Одной-то рукой?
Я снова покраснел.
Женщина с решительным видом подошла ко мне:
— Давай хоть голову вымою. А то начнешь плескаться одной-то рукой — рану загрязнишь.
Мыла она хорошо, ловко. Я все время косил глазом на рану — вроде бы ни капли не попало. И по-прежнему прикрывался ладошкой.
— А ну убери руку! — рассердилась женщина. — Всю меня локтем, как шилом, исколол.
Я проглотил застрявший в горле ком, но руку не убрал. И тогда женщина добродушно заметила:
— Убери. Твое при тебе останется…
Улица, на которой находился наш госпиталь, называлась Оперной. Она называлась так потому, что на этой улице, как раз напротив госпиталя, размещался оперный театр — длинное, похожее на ангар здание, у которого «смотрелся» только фасад — он имел колонны, а бока «не смотрелись» — там не было ничего интересного: обыкновенные стены, какие можно увидеть всюду.
До войны артисты оперного театра шефствовали над школой, где теперь размещался госпиталь. Школьники часто бывали в гостях у артистов, а те у школьников. Поэтому про школу говорили: «Та, где артисты шефы».
Так было до войны. Когда началась война, кружки, которыми руководили артисты, распались: старшеклассники ушли на фронт, многие ученики встали к станкам, остальные перешли в другие школы, где не было художественной самодеятельности. Из школьного здания вынесли парты, классные доски, вместо них внесли кровати с панцирными сетками, тумбочки, устроили в подвале кухню, и осенью 1941 года открылся госпиталь. Артисты оперного театра стали шефами этого госпиталя.
Раз в неделю, по вторникам, в госпитале устраивались концерты. Никто не вывешивал объявления — мы и без этого знали: вечером придут артисты. После дневного сна мы прилипали к окнам — они выходили на артистический подъезд.
— Появились! — выкрикивал кто-то, и все спешили в клуб занимать места.
Раненых в театр пускали без билетов и на любой спектакль. Капельдинерши встречали нас ласковыми улыбками, говорили шепотом:
— Садитесь, сынки, на свободные места.
Вызывая веселое оживление зрителей, мы устраивались в креслах. Зрители оживлялись потому, что мы были одеты в полосатые пижамы и тапочки на войлочной подошве.
Я побывал на всех спектаклях, слыл в госпитале заядлым театралом. И, наверное, поэтому мне достался пригласительный билет на заключительный концерт смотра сельской художественной самодеятельности. «Может быть, что-нибудь толковое будет», — размышлял я, собираясь в оперный театр, где проходил смотр. Но концерт оказался так себе: соло на баяне, хор, пляска. Я оживился только, когда конферансье объявил:
— Куплеты Зибеля из оперы «Фауст» французского композитора Гуно исполнит ученица десятого класса Больше-Мурашкинской средней школы Капитолина Ретинина.
На сцену вышла — глаза в пол — чернобровая девчонка с вишневым румянцем на щеках. Голос у нее оказался густым, красивым, и сама она была — прелесть. Когда смолк последний аккорд, я вскочил и громко крикнул:
— Браво!
Зрители обернулись на меня, захлопали в ладоши и тоже закричали «браво» и «бис». Девчонка метнула на меня взгляд, что-то сказала аккомпаниатору — седоголовому мужчине в мешковатом костюме. Мужчина положил руки на клавиши, и в зале вновь зазвучало: «Расскажите вы ей, цветы мои…»
В антракте я подошел к Капе и с видом знатока сказал:
— Голос у вас — как у настоящей певицы.
Был я без передних зубов, с повязкой на скуле. Стеснялся открывать рот во всю ширь и поэтому говорил невнятно, слегка шепелявил.
— Что? — переспросила Капа.
Я сделал вид, что чешется нос, и повторил, заслонив рукой рот:
— Голос у вас — как у настоящей певицы!
Капа потупилась. И без того румяные щеки заполыхали еще больше. Показалось: тронь их спичкой, и спичка вспыхнет. Я понял — комплимент понравился. Это воодушевило меня, и я стал выпускать их обоймами. Совсем осмелев, спросил, по-прежнему прикрывая рукой рот:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: