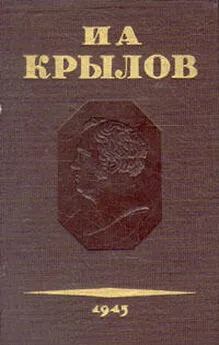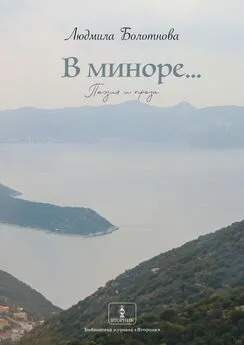Иван Аксенов - Том 2. Теория, критика, поэзия, проза
- Название:Том 2. Теория, критика, поэзия, проза
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:RA
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:5-902801-04-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Аксенов - Том 2. Теория, критика, поэзия, проза краткое содержание
Том 2. Теория, критика, поэзия, проза - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Глава V
Трогательная история
Последнее воспоминание о славных боях было обращено к Скраму. Болтарзин посмотрел, как налетевший из-за горы ветер опрокинул два беленьких бумажных кораблика, сделанных из резолюцией Окончательного Конгресса, а набежавшая рябь отвела всякую прозрачность и озеро стало обыкновенно скучным. Привет памяти Скрама повис в воздухе. Пришло ли к тому искомое беспокойство, утратил ли он, наконец, душевное равновесие, разорвало ли что-нибудь его сердце, Болтарзин не знал; во всяком случае, сквозь это сердце время уже не бежало. У себя на квартире он нашел все, как ни в чем не бывало, поэтому первым делом, по снятии перчаток, были письма; их обнаружилось несколько: разных цветов, форм, но одного почерка. В последовательности штемпелей, по возрастании нервности почерка он имел: 1) Милый Флавий Николаевич и т. д. Что греха таить, меня очень обрадовала ваша любовь – она поднимает мое значение в моих собственных глазах. Мне страшно тяжело, что я не могу дать вам то, что вам сейчас нужно, но горе мое в том, что я не могу. Поймите меня: я не могу ничего принести, кроме большого мучения и себе и вам. Не потому, что считаю это безнравственным, а потому что не могу. И т. д. 2) Милый Флавий Николаевич! Отчего вы не пришли? Что с вами? Я очень несчастна. Напишите мне или лучше придите. Неужели вы меня не поняли? 3) Милый Флавий Николаевич! Неужели вы обиделись или я сделала вам больно? Не может быть. Конечно, лучше всего было бы порвать, но мне это очень тяжело. Судьбу наших отношений я отдаю в ваши руки, как хотите. Вы знаете, что будет много тяжелых минут. Приходите. Я страшно одна и мне страшно. 4) Флавий Николаевич! Я была у вас и спрашивала, что с вами. Когда вы вернетесь, приходите сейчас же ко мне, это для меня необходимо. Очень извиняюсь за нескромность, но я беспокоилась. Мне очень тяжело думать, что вы меня не поняли. 4) Милый Эрнесто! Приходите сейчас ко мне. Это совершенно необходимо.
Последний petit bec 108 был сегодняшнего производства и Флавий Николаевич окрылился сознанием новой победы, которая ему, в сущности, далась без расходов для души. У Корневой он удивился, увидя Воронина, в совершенно выпотрошенном состоянии, настолько, что не спросил даже об источнике знакомства, о котором он не подозревал. Смерть этого человека была фактом на две трети; оставшийся обряд ему предстояло совершить в Каире, при помощи лучших медицинских сил, со всей научной добросовестностью высокой культуры. Несколько фраз послужили ко взаимному освобождению и Болтарзин облизнулся ожидаемому. Было нечто, что его беспокоило, однако. Стекло, разгораживавшее его от живущих, бесследно пропавшее в дни бытия Федерации, внезапно обнаружило свою несокрушимость. Как ни дорога была ему Мария Марковна, но он чувствовал себя по сю сторону и даже видел свое отраженье в предполагаемой витрине. Многие и должные слова отскакивали от преграды под углом, равным падению, и голос его звучал, как в бочке, для него самого. Может быть дело в издыхающем Воронине. Американский замок щелкнул зубом и выражение лица собеседницы резко изменилось. Тревога была во всех его поворотах, крайняя напряженность проникала ее до кончиков волос. «Вы знаете, Флавий Петрович – он здесь. Вы удивлены? Мне сказал Воронин. Я его давно знаю. О, я умею владеть собой. Научили. Что со мной будет? Боже, что со мной будет? Флавий Петрович что со мной будет? Ну, Флавий Николаевич, не придирайтесь вы ко мне. Ах, я смеялась, болтала… За что? Какая боль. Ах. Ах…» И Болтарзин принужден был опрокинуть графин воды на свою милую знакомую, внезапно принявшую горизонтальное положение. «Не трогайте, не трогайте меня!» – взывала она, пытаясь произвести акт собственноручного удушения и в промежутках довольно больно кусаясь. Все-таки приглашение злополучному Эрнесто было написано после нескольких неудачных попыток; после неоднократного колебания был означен адрес конверта. Надо было выйти и вечер провести вместе, так как Корнева за себя не ручалась. «Держите меня, а то себя убью!» Но так как туалет продолжался дольше расчетов Болтарзина, то он счел позволительным нарушить неприкосновенность жилища и застал композитора во всеоружии кармина, пудры и прочего, за поглощением содержимого склянки английских духов, что вынудило новое вмешательство, довольно энергичное, во внутренние дела союзной личности. С письмом в руках и судорожными подергиваниями плеч она предшествовала приближению Флавия Николаевича к почтовому ящику. – «Нет, Мария Марковна, вы уже сами опускайте, я в эти предприятия не пускаюсь. А теперь куда?» Париж завивался и разбивался в хрусталях ресторанов, в камнях кокоток, в разноцветных жидкостях полных стаканов. Этот вечер был один сплошной поцелуй и красивые рекламные огни сводились приближающимся прикосновением. О, она могла пить много, она может море выпить; это ее настоящая сфера, здесь ее настоящее «я»; да, да, она, в сущности, в душе, конечно, проститутка. Боже мой, Боже мой, за что? Она никому не делала зла, но ей это предсказывали и еще недавно. Пусть и он пьет. На бульвар они врезались пешком, в каскад авто, но добрые звери пневматически обегали их, виляя лучами. Огни вывесок падали и вертелись, каштаны, прорезанные ими, распинались за автономию и ершились черными лучами, но и они были свет, свет, свет. Улица ревела и трещала от взрыва бензина и зеркальный асфальт игрался горящей ночью, как мячиком, игрался змеиной толкотней тротуаров, как телеграфной лентой, как бесконечной бумагой ротационной машины, газеты Temps 109 с ее голубыми ананасами. За пестрой мраморной плитой артистка, выпивая коньяк (Болтарзин злонамеренно предложил ему завершительную комбинацию, зная по горькому опыту эффект на непосвященных), продолжала о том, что вся жизнь ее – одна сплошная рана, что Воронин недавно говорил о ней одной знакомой, будто по его мнению она должна быть страшно развратна и он хотел бы с ней провести ночь, одну, не больше, и она все думает об этом теперь, все думает. Ему, конечно, больно это слышать, она понимает, хотя он очень напряжен, но она этого во всю жизнь не забудет (Болтарзин вздрогнул, такие обещания создают смертельных врагов), он должен простить (ужас, ужас), она несчастна, несчастна; надо ехать. Красное колесо, одно, вытаращилось за окном и посмотрело на них не без укоризны, поморгало, сообразило и скромно убралось по добру, по здорову. Скатертью дорога! Но им она была шелком, была плюшем, фетром и восемью отражениями ночного цилиндра. Волны ее рассекались номером самохода, черная синева клубилась под его ударами, сквозь пропавшие стенки ворвался парк и обтекал их, шурша и поглаживая набухшими почками водорослей-веток. Болтарзин чувствовал пожатье руки на своей перчатке, чувствовал щеку на своей, чужие слезы на своем лице и цит<���ир>уемое из Грекко 110 небо распускало свой плед «ах, здесь он мне сказал, что он меня любит», но все было чистым движением, все было чистым пространством и производило скорость |d(s)t| 111 , пока Флавий Николаевич не увидел с жалостью и бесконечной, завернутой в Эйфелеву башню, нежностью, как женщина перегнулась в окно и вся ритмически подбрасывалась вне такта почтенного механизма. Твоя от Твоих – весь обед пропал: страдалицу вывернуло, как перчатку. Не слушайте друзей, милые читательницы, не хвастайтесь своим винопийством, а главное, не пейте коньяку после шампанского, в минуту скорби душевной. Но, впрочем, все к лучшему, и кто знает… если вы за себя не ручаетесь? Но если Болтарзин думал, что это для него эксод 112 , то он злостно ошибался, не тут то было. Неделя сменяла неделю, а ему приходилось выслушивать много, много разного о Жестоковыйности Эрнесто, подвергнутого платонизму; ему приходилось выслушивать тревожные расспросы очень смирного Эрнесто о том, «что русские женщины понимают, собственно, под словом душа?» Ему довелось пережить монологи о недостатке уважения в сердце этого изверга (о, читатели мои, если эти строки уймут хоть одну русскую, многое мне простится) и ему неоднократно демонстрировалась большая душа. Наконец, он дал телеграмму супругу Марии Марковны, чье имя запрыгало по разговору его жены с проворностью некоторого насекомого и, не ожидая конечного появления deus’а из конъюгального карантина 113 , он выкатился на север в тот же час, когда потентат 114 выгружался на восточном вокзале. Прощание? Прочили о прощении и многое обещали. Многообещающее прощение, вообще, выгодное помещение чувства, ибо оно разгружает настоящее без закабаления будущего, чем приятно отличается от государственных займов. Эти соображения, впрочем, «Флавий Петрович» (он все-таки оставался Петровичем в минуты наибольшей утилизации (и, следовательно, благоволения), против чего перестал даже протестовать), бывший комментатор Лотрэамона, а ныне издатель посмертного Скрама, всего меньше думал о таких вещах. Все для него подверглось распылению бодрящих пароходных свистков и высокий дебаркадер взметнул и высушил навсегда (навсегда? навсегда ли? увы!) и дни, и вечера, и ночи (утром он спал, принципиально не допуская сновидений). Чернело. По темно-синему подмалевку пущена была белая опушка, отчаялась и зашлепала какая-то материя, и не стало больше дельфинов. Салон опустел, палуба обратилась в свеже-просольню, берега не было, в наличии состояла одна мокрая толчея, да скрип ревматический во всех заклепках и суетливая беготня команды. Все было загажено и перепугано. Только под стеклом, в раме фарфорового лифостратона 115 была тишь, гладь и Божья благодать. Невозмутимо ровно калились лампы, умно обдумывали свои измерения настенные циферблаты, жестикулировали машины, незыблемые в бессонном движении. Патетически возникали из мрака их вертлюги, широко взмахивали, рассыпая отраженные лучи, сладострастно отшатывались, обобщая полировкой, и опрокидываясь ожесточенно в жирно смазанную темноту, не обращая внимания на длинные патентованные стебли, осторожно ползавшие среди этой декламации. Вдумчиво останавливающиеся, поражавшие сухостью и возвращавшиеся с полдороги, чтобы настоять на своем перед капризами несимметрично насаженных деревьев. Этот исступленно рассчитанный бег неподвижно клокотавшего металла, осуществляя единство во множественности, был таким благородным контрастом по отношению к происходящему вокруг безобразию, что целебное спокойствие разливалось по всем чувствам Болтарзина и зрение было единственной радостью в этом мире прискорбия. Но пусть прозрачны самые черные валы, пусть упоения достойны самые не чесанные тучи и неопровержимо бодрствуют за нас непогрешимые, непогрешимые механизмы – всему этому не изменить печального наличия в нашем мозгу не усыпленных половых центров. И сквозь все возрастающее мировое нахальство Болтарзина, черными и серыми воронками смерчей, черными и серыми воронками врывалась обида, ущемленное самолюбие, желание, «желание желаний, тоска» и эта самая, с позволения сказать, любовь. Все это отличалась весьма шустрой быстротой и юркостью, семеня в безграничном сознании, обнимающем вселенную и ее содержащем. Ибо
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: