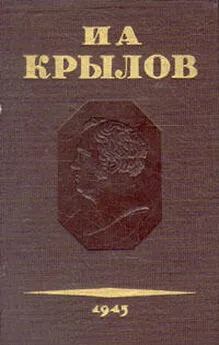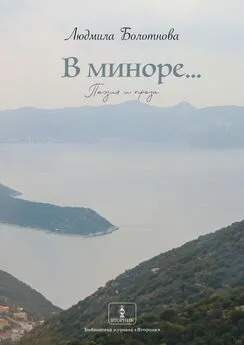Иван Аксенов - Том 2. Теория, критика, поэзия, проза
- Название:Том 2. Теория, критика, поэзия, проза
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:RA
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:5-902801-04-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Аксенов - Том 2. Теория, критика, поэзия, проза краткое содержание
Том 2. Теория, критика, поэзия, проза - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Глава III
Тихие откровенности
Последнее обстоятельство нуждается в некотором комментарии, но вряд ли он уместен на этих страницах и наличие, равно как и отсутствие его, не изменят мирового порядка, в силу коего будущее есть понятие в корне относительное. Некоторые наши чувства (S), обусловленные состоянием нашего организма (c), в некоторый момент (t), определяют желания нашего перемещения в некоторую определенную обстановку (E), состоящую из ряда явлений (e1, e2, e3…), заранее воображаемых в зависимости от SCT. Так что мы имеем SCT = Ec1 + e2 + e3+. Но так как Sct выбирает элементы е не наобум, а группируя их, согласно своему господствующему содержанию, то продифференцировав настоящее уравнение (по придании ему конкретной формы) и проведя производную через О, будем иметь возможность установить максимум искомого значения 87 . Болтарзин знал, в чем дело, он знал это, собака, и без математики, но то, недостаточно смутное, что копошилось в нем, как рак, опрокинутый на спину, и требовало названия, упорно зачеркивалось усилиями благоразумна. Флавий Николаевич понимал, что определенность неизбежна и что ярлык придется не только наклеить, но и проштемпелевать и все же, инстинкт самосохранения, погубивший Шекспировского Адониса 88 , заставлял бывшего парагвайца ограничиться бесплодным изложением заранее зашлепанной каучуковой печати, чтобы и самому не видать. Прием этот, давно использованный в Африке птицей страус, не отличаясь новизной, пользуется тем не менее широким распространением среди человечества (и не только современного). Они договаривали о Клиниде 89 и коралловые, розовые сумерки, глазируя Новые Афины 90 , корежились, должно быть, от вечной улыбки, трубки и спокойствия Скрама. Этот остаток был безжалостно выброшен Болтарзиным, не хотевшим ничего импортировать в серый Париж, ни в чемодане, ни в голове. Душа его была раскрыта, воронка в нее вставлена и можно было начинать пытку движением, несравненно упоительнейшую пытки водой [2]. В конце концов он на все махнул рукой и уже не сопротивлялся. После чего, опускаясь в фарфоровую трубу метро, он встретил бывшую Корневу. Музыкантша узнала его немедленно и радовалась, если не шумно, то достаточно откровенно. Болтарзин поймал себя на усилии найти ее красивой и обрадовался, что еще не нашел (несчастный, несчастный). «Как поживаете? Что ваш супруг? Я получил ваше письмо в Шанхае. И был страшно тронут вашим вниманием». – «Супруга у меня больше не чувствует? 91 (она положительно отлично причесана); ах, Флавий Николаевич, сколько всего было с тех пор (она очень элегантная), заходите, мне очень нужно с вами поговорить (это хорошо, что у нее голос не поставлен и срывается снизу вверх), адрес тот же я писала? Вот мой». Граммофонная труба туннеля проглотила не только Марию Марковну, но и весь поезд со всем содержимым страхов, деловых соображений и флиртовых намерений, не проглотив, однако, чувствительности господина Болтарзина Флавия Николаевича. «Ну, что ж? – думал этот, почему и нет? зачем прятаться от себя самого? Чем я рискую: терять мне нечего, кроме собственного душевного спокойствия». Через семьдесят два часа он был у Марии Марковны. «Я скажу горничной принести чай. Я говорю безобразно, но здесь я перепутала все языки. Вам крепкий? Еще? Будет? Что вы делали? Очень красиво в Париже? Жалко я не знала, я просила бы вас привезти мне оттуда мотивы. Ну, это просто делается. Симфония? Я же ее бросила. Ах, та… да, дописала. Я теперь иначе буду работать. Там много было еще старого. Не знаю только, во что мое новое выльется. А вы все рисуете? Ужасно смешно, я все считаю вас художником. Но это даже лучше, так редко найти человека, свободного от личного искусства. Я ничего не делала все это время. Видите, я была больна. Пришлось делать операцию. Мужа тогда уже не было. Нет, он хороший человек, очень преданный… Вы знаете, он меня до сих пор любит… так странно. Но он, понимаете, совершенно не может меня зажечь и я при нем не могу работать. Я много работала недавно и скоро засяду опять. Вот только с деньгами плохо. Я любила очень одного господина. Это замечательный человек, ну, несомненный гений… нет достаточно я понимаю в своем деле, уверяю вас. У меня могут отнимать способность к музыке, к творчеству, но все со мной советуются, и в критическом уменьи меня признают… и я вам говорю, как специалист – этот человек гениален. Теперь он мне, конечно, кажется красивым, но раньше, нет… Я очень перед ним виновата: я от него убежала и прячусь. Ах! Было страшно тяжело, он обращался со мной, как с идиоткой. Вы знаете, в России меня все считали умным человеком, так что здесь обидно… Хоть говорили, по крайней мере. А теперь я потеряла у него последнее… я потеряла… право… на… уважение. Есть, конечно, за что. Потом он совершенно не признавал во мне композитора, а я, ей Богу, пишу лучше всех его приятелей. Это же черт знает, какие прохвосты, вы себе представить не можете, это надо видеть… Напиваются до рвоты и для них нет ничего святого. Я вот все думаю… Это не принято, кажется, говорить. Если бы мне поступить на содержание к какому-нибудь старику. У вас никого такого знакомого нет? Пожалуйста. Задолжала кругом и кончится тем, что меня посадят в тюрьму. Ну, довольно об этом, что будет, то будет. Я вам сейчас покажу, что я сделала… последнее, теперь я буду по другому работать». – Музыка вообще вредная вещь, а в состоянии Болтарзина ее можно было принимать только в малых дозах и по предписанию врачей. Конечно, она была хорошей композиторшей, Мария Марковна, и красивой женщиной. Музыка ее была несравненно вразумительней лирических отступлений речи и слушатель негодовал на грубого и тупого угнетателя бедной жертвы. – «Вы понимаете, я была тогда полна всем этим, когда начинала сочинять, а дописывала совсем другой. Это чувствуется? Почему, почему это так сделано? За что? Вот эта бумага, чернила, эта тряпка, все это не меняется, остается, а из человека все уходит, как из дырявой бочки и он сам переделывается? Меня это ужасно мучает. Милый Флавий Петрович…» – «Николаевич», – «А я как сказала? Просьба, конечно, большая – не можете ли вы узнать, где он… Я боюсь его встретить каждый день. Я часто вижу его во всяком мужчине и перебегаю на другую сторону… Меня раздавит какой-нибудь автобус, я вижу, что этим кончится. Узнаете? Я тогда сейчас же уеду. Я вам дам его имя на бумажке, а то я не могу еще его произносить – это меня на целую неделю расстроит, а мне нужно будет много бегать… Дела. Посидите еще. Я только с двух часов ночи на человека похожа. Боже мой, как это все ужасно! Я все думаю, думаю. Мне кажется, что вся комната шевелится и везде пятна крови. Пойдемте сюда, рядом, а то мне кажется, что в той комнате кто-то есть. Посмотрите под стол. Ну?» – И она вытянула шею, при чем сходство ее с… Чем-то вроде лебедя, только домашнее, стало особенно заметно. – «Никого нет? Ну, теперь я спокойна. Все это время я так волновалась, мучалась. Понимаете. И потом – сны. Каждую ночь. Одному моему знакомому в годовщину смерти его матери приснился большой черный таракан и сказал: „я пришел и посмотрел, а потом еще приду и ты умрешь“. – Он потом еще раз пришел и тот действительно умер. Он мне сам рассказывал. Вот эта история меня мучит, мучит, мучит… Я очень, несчастна, Флавий Николаевич, не оставляйте меня». – Так продолжалось довольно долго Болтарзин, как нетрудно догадаться, принял для отыскания Ernesto de Fiori все меры необходимости для неуспеха предприятия, в чем и преуспел. Но душевное спокойствие тем не менее оставалось в сохранности. Еженедельно он заходил на авеню Ош, еженедельно слушал музыку и музыку голоса несвязно изливавшего сетования на безбожного Ernesto и соображение о бренности всего, тяжести существования, особенно для женщины, которая самой природой осуждена на непосредственность во всем и потом… сны. Но душевное спокойствие Флавия Николаевича было похоже на водную поверхность кувшина басни, в него падали камушки на камушек и кто его знает, когда начнет переливаться через край живительная влага? Он совсем забыл, что она, обычно, бывает соленая. Впрочем, это равновесие могло быть нарушено раньше срока, любым толчком, а как тому не возникнуть в городе, где непрерывная дрожь охватывает пространство от неба, трепещущего аэропланами и прожектором, до глубоких слоев подпочвы? Пропитанная кровью земля выращивает не одни обелиски, фонтаны и каштановые заросли: ажурная башня Эйфеля и сквозное колесо вертятся вокруг любой головы пловца, полированного резиной асфальтового озера, живого моря на [нрзб.]. История и геология современности не уступает в ноздреватости любому авторадитору. Правда – кровь подменили и преосуществили, но пульсация сосудов только ускорилась: фарфоровые вены метро, глазурные трубы канализации, чугунные цилиндры акведука, свинцовые жилы газа, цементные вощины телефона, медные капиллярии электричества, стальные почтовые артерии бьются сильнее четырех сердец мегалоимперии, отвечая несчетным взрывам неисчислимых моторов, переполняющих чашу возможного. И терпение переполнилось: обещание Скрама пришло к исполнению – последней каплей была какая-то казнь какого-то учителя в какой-то андалузской деревне. Все взметнулось, небо вспыхнуло зеленью и погасло. Улицы замостились головами – булыжник потрясал котелками и по воздуху распоролись шелковые черные бабочки. Рви! Загорелась медь предохранителей и шип ее зеленых паров нельзя было заглушить свистками. Огороды больших бульваров лопнули от гордости. Черная мощь не обочлась 92 . Рви! Загородились порочные бесконечности штукатуренных рвов. Свет пропадал с каждым криком и они хрипели все новыми пророчествами и прорицаниями. Хрюканье обуви по каменной земле и лязг падающего гофренного железа отсчитывал надсаждающийся перебой фабричных гудков. Рви! Все на улицу! Мощный мрак шлепали по морде горящими газетами. Светлые змеи пробегали по фетровой икре и улетали, помахивая хвостиком. Ревущие обшлага распадались крыльями и черные пучеглазые утюги врезались в кучи замолкавшие, чтобы снова завыть: «невозможно». Рви! Падали вровень с тротуарной замостью искореняемые фонари и вспыхивал газ, вылетавший из земли. Огненные деревья ветвились и сплетали верхушки, а повсюду блестели одни глаза, глаза, глаза, глаза… не бриллианты Тата. Рви! Зацепи зарю земляную безделицу! Царапай разрежь ее! И стекло валилось звонкой инструментовской ударных «От, крепкое. Бью в него ломом, дырка есть, а звезды не получается». Но звезд нигде не было в продаже. Пурпурный цветок взмыл над папоротником столицы 93 далеко видели его качанье, но никто не знал слова, хотя бесчисленные руки тянулись к нему в эту сырую, осеннюю ночь. Наскоро садясь в тонущий и топочущий поезд, Флавий Николаевич бросил в коробку несколько дней лежавшее в кармане письмо с объяснением в любви. Оно, во-первых, могло не дойти по адресу, а, во-вторых, он уезжал, чтобы быть по край ней мере повешенным – эту прекрасную перспективу развернул ему Скрам и сигнал к реализации, данный Парижем, пробегал по всем трансмиссиям, соединяющим все страны. Во власти вращенья паровозных эксцентриков, Болтарзин вспомнил, что подлинный цвет финикийского пурпура столь же иррационален, как произношение и [пропуск в тексте], разложенный по двум зорям на в, б, т, ф, алый и лиловый, торжество и траур. Впрочем, тот цвет, совмещал оба эти понятия, в свое время вознося уцелевшего победителя и окутывая трупы, окруженные многоустным шелестом золотого лепетанья огня; дым же его восходит во веки веков. Аминь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: