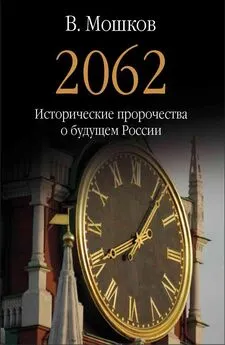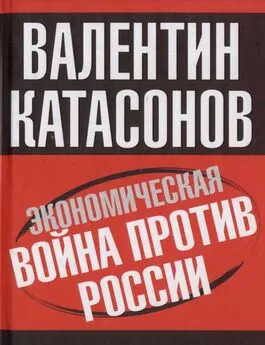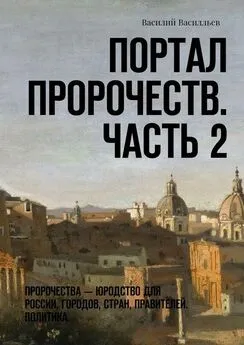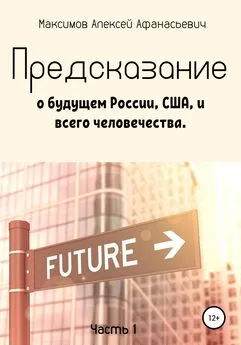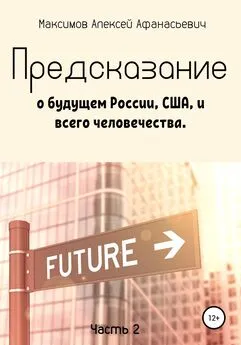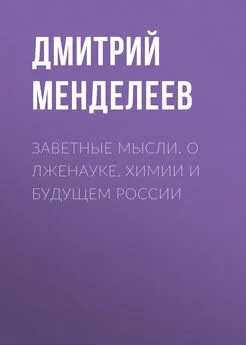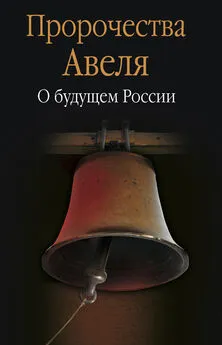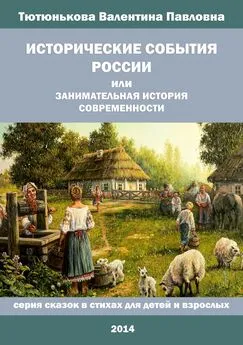Валентин Мошков - 2062 Исторические пророчества о будущем России
- Название:2062 Исторические пророчества о будущем России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ТДЛ
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-516-00088-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Мошков - 2062 Исторические пророчества о будущем России краткое содержание
Что ждет Россию впереди? Читайте удивительный прогноз в предлагаемом издании.
2062 Исторические пророчества о будущем России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Хотя обе упомянутые школы берут за основание учение Дарвина и обе считают себя истинными его последователями, но в своем направлении они сильно расходятся. Неодарвинисты отбрасывают, как было сказано, у Дарвина ламарковский фактор упражнения или неупражнения органов, как «нарост» и «ересь», доказывая, что Дарвин принял его «из великодушного побуждения» (5). Своих противников они называют поэтому «ламаркистами» за то, что от Дарвина они берут только ламарковский принцип, а естественный отбор, хотя и принимают в теории, но не пользуются им для своих выводов. А эти последние в отместку называют неодарвинистов «ультрадарвинистами».
Школа «чистых дарвинистов» дала от себя снова несколько отпрысков, которые все дальше и дальше уходят от теории Дарвина. Между ними выдается школа, которая прямо называет себя «неоламаркистами» и ставит Ламарка выше Дарвина. Она в свою очередь подразделяется на фракции, из которых европейская стоит ближе к Дарвину, а американская дальше от него. Кроме того, в Англии и Америке есть школа (Закс, Пфеффер и Генслов), которую называют «антиселекционистами» (противниками V естественного отбора) и которая не принадлежит ни к ламаркистам ни к дарвинистам. Она принимает только принцип «самоприспособления» (6). Наконец Геддэс составил еще новую теорию происхождения видов, которая, по его мнению, должна совершенно устранить естественный отбор. Теории эта думает, что каждое органическое развитие покоится на состязании внутри организма процессов питания и роста (7).
Таким образом, из приведенного нами перечня новейших школ видно, что учение о происхождении видов переживает теперь судьбу многих религиозных систем, имеющих тенденцию к постоянному дроблению на секты и фракции все более и более мелкие, все далее и далее уходящие одна от другой. Но картина такого состояния вещей была бы не полна, если бы мы не сказали ни слова о «теории мутаций» или скачков, основные положения которой расходятся и с Дарвином и с Ламарком, но приближаются к древней «теории катастроф». Последователи теории мутаций не считают возможным, подобно их противникам, пренебречь «постоянством видов», фактом, который «мы всегда можем наблюдать» (8).
Кроме того, они думают, что если бы развитее живых существ и заселение ими земного шара совершалось с медленностью обыкновенного селекционного процесса, при котором изменения становятся заметными лишь спустя тысячелетия, то «ни миллионов, ни даже миллиардов столетий не хватило бы, чтобы объяснить происхождение наиболее высокоорганизованных существ» (9). Колликер предлагает поэтому допустить ряд мелких, но внезапных изменений, вследствие которых «новые виды возникают из старых вдруг, как бы по мановению волшебного жезла». Этот последний и Альберт Ланге расходятся только в вопросе о том, чем вызываются внезапные скачки в развитии животного. Колликер принимает, что под влиянием «великого плана» развития организмы могут производить на свет не только своих обыкновенных зародышей, но и других, уклоняющихся от родительского типа. Происходит этот процесс в яйце организма под влиянием внутренних причин внезапными скачками. А по мнению второго, если внешние условия остаются неизменными, то виды к ним приспосабливаются и также остаются неизменными. Для них наступает период равновесия. В это время новые формы не могут появиться. Но если равновесие нарушится изменением жизненных условий, то виды начинают быстро изменяться. Одни из них прогрессируют быстро, скачками, а другие в то же время регрессируют (10).
Факт существования такого множества теории о происхождении видов, такого множества решений одного и того же вопроса, сам но себе красноречив. Он говорит, во-первых, о необыкновенной трудности вопроса, а во-вторых, о том, что решения его еще очень далеки от истины. Если бы описываемые теории имели между собою некоторую преемственную связь, например, если бы они одна другую дополняли или исправляли или если бы расходились только в деталях, то необходимо было бы с ними считаться. Но если они расходятся между собою диаметрально противоположно даже в самых своих основах, если они отвергают одна другую, то это значит, что у них нет даже и фундамента для будущего здания, а есть только материал для его постройки. Поэтому человек, желающий составить себе свое собственное мнение о происхождении видов, ничем не связан, кроме фактов действительности, и ничто не мешает ему строить новую теорию: так как научная почва для такой постройки еще совершенно свободна.
Примечания. (1) — к. 10–11. (2) — к. 14. (3) — Бт. 6. (4) — Бт. 156. (5) — Бт. 10–11. (6) — Бт. 16. (7) — Бт. 18. (8) — вт. 187. (9) — вт. 206. (10) — с. 150.
II. Критический взгляд на различные теории происхождения видов
Хотя существующие теории происхождения видов имеют свои пробелы и недостатки, но все они вместе собрали такое огромное количество фактов и так всесторонне осветили вопрос, что теперь вовсе не трудно прийти к правильному его решению.
При взгляде на живых существ, населяющих мир, так бесконечно разнообразных и так хорошо приспособленных к окружающим условиям, человек задавался вопросом: созданы ли все они в том самом виде, как мы их знаем, или когда-то были иными, а потом с течением времени изменились?
Известно, что библейская теория остановилась на первом решении, но европейская наука в лице Ламарка отвергла его и приняла второе. Все теории признают теперь живых существ способными изменяться в зависимости от условий, в которых они живут.
Далее явился вопрос, каким именно способом происходило приспособление существ к природе? На него отвечало два решения. Во-первых, существа могли быть созданы пластическими: их органы могли перестраиваться в зависимости от окружающих условий. Таково было решение Ламарка.
Во-вторых, они могли быть устойчивыми для внешних влияний, но способными варьировать от причин внутренних. Приспособлялся в таком случае весь род, а не отдельные его индивидуумы. Организмы, благоприятно сложенные, переживали и передавали свои свойства потомству, а остальные вымирали. К этому взгляду пришли Дарвин и Уоллес.
Затем представлялся вопрос, могут ли оба эти способа приспособления существовать вместе, или один должен быть отброшен как излишний.
Дарвин решил, что могут, Уоллес — что нет. По-видимому, Уоллес был прав, потому что оба приведенные способа исключают друг друга, как диаметрально противоположные. Не может быть существо одновременно и устойчивым, и пластичным, как не может быть физическое тело и мягким, и твердым, и легким, и тяжелым, и т. и. А следовательно, процесс приспособления, который был хорош для существа пластичного, не годился для существа устойчивого и наоборот.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: