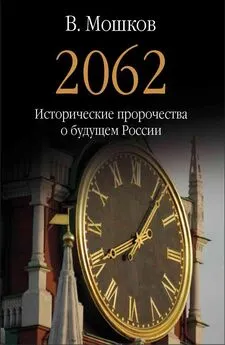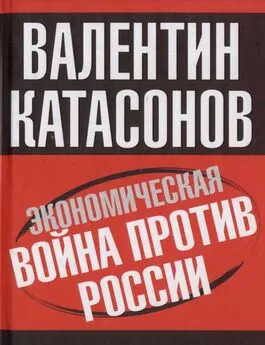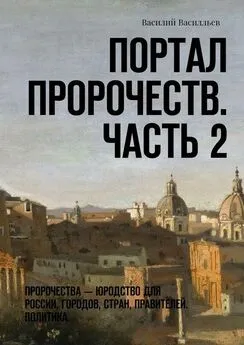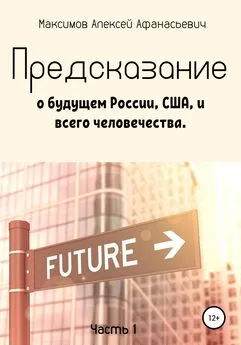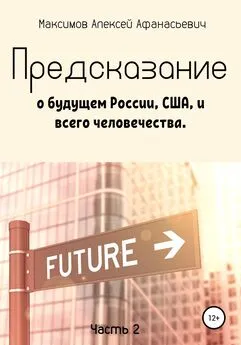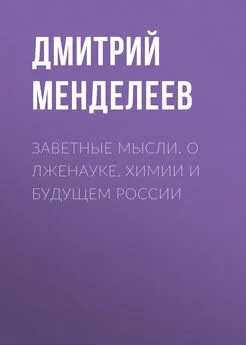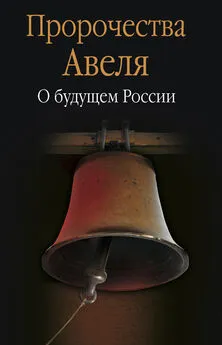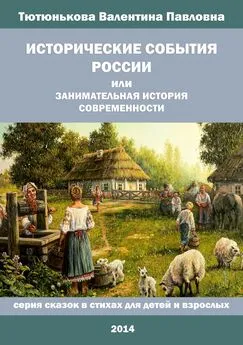Валентин Мошков - 2062 Исторические пророчества о будущем России
- Название:2062 Исторические пророчества о будущем России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ТДЛ
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-516-00088-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Мошков - 2062 Исторические пророчества о будущем России краткое содержание
Что ждет Россию впереди? Читайте удивительный прогноз в предлагаемом издании.
2062 Исторические пророчества о будущем России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
То же самое можно повторить и о горцах. Были ли их предки совершенно тождественны с жителями равнин, или различие между ними существовало еще в отдаленные доисторические времена, мы не знаем. Таким образом, при своевременном состоянии науки мы должны отказаться от всяких попыток доказать рост органов от их упражнения или недостатка упражнения.
Но предположим, однако, что органы животного действительно растут от упражнения и атрофируются от недостатка упражнения, и посмотрим, к чему это может привести.
Прежде всего необходимо помнить, что существует так называемый «закон соотношения органов», открытый впервые, если не ошибаюсь, Кювье, который, благодаря ему, мог по одной кости ископаемого животного восстановить не только скелет его, но и внешнюю форму.
Дарвин формулирует этот закон следующим образом: «У человека, как и у низших животных, многие (?) части тела находятся в таком тесном соотношении между собою, что если изменяется одна часть, то изменяются и другие» (7). А Герберт Спенснер объясняет действие того же закона на примере более подробно и обстоятельно: «Прежде чем артерия, питающая сильно упражняемый мускул, будет в состоянии постоянно снабжать его прибавочным количеством крови, она должна увеличиваться в диаметре; а чтобы увеличение ее диаметра могло принести пользу, главная артерия, от которой она отходит, должна тоже настолько видоизмениться, чтобы быть в состоянии приносить прибавочное количество крови… Рост первичных и вторичных разветвлений артерии не может идти выше известных пределов без роста меньших кровеносных сосудов, от которых зависит питание этих ветвей; большая же сократимость артерии требует увеличения возбуждающих их нервов и некоторого видоизменения в той части спинного мозга, из которой отходят эти нервы. Таким образом, не прослеживая дальнейших изменений, требуемых экстра ростом вен, лимфатических и железистых органов и других деятелей, мы ясно видим, что прежде чем какой-либо важный орган сможет приобрести постоянное увеличение в размерах и значительно повышенную силу в отправлении, на всем протяжении организма должна произойти значительная перестройка» (8). Иначе сказать, по закону соотношения органов всякий организм представляет из себя совершеннейшую машину, в которой каждая малейшая частица связана со всеми остальными густою сетью математических отношений. И действительно, если ничтожнейший механизм, проектируемый человеком для того, чтобы он правильно действовал, требует сложных математических расчетов, то как можем мы допустить, чтобы организмы животных строились так, как пекутся пироги, т. е. на глаз.
И вот теперь спрашивается: как отзовется на законе соотношения органов увеличение одного из них, вызванное упражнением?
Одно из двух: или упражняемый орган вырастет, а весь остальной организм останется неизменным. Но тогда в организме будет нарушен закон соотношения органов. Из здорового он сделается больным. Или равновесие в организме, нарушенное увеличением одного из органов, тотчас же восстановится, весь организм перестроится, и все органы его увеличатся в соответствующей пропорции. Закон соотношения между органами нарушен не будет, но зато роста органа тоже не будет, а будет рост всего организма.
Так как рост органов или перестройка организма совершаются при помощи кровообращения вместе с каждым ударом пульса, то в первом случае животное не могло бы ни двигаться, ни отдыхать, потому что как покой, так и движение вызывали бы то рост, то уменьшение членов, и, следовательно, у него никогда не было бы правильного соотношения органов.
А во втором случае весь его организм перестраивался бы ежеминутно, ежесекундно, а следовательно, вечно находился бы в состоянии неустойчивого равновесия подобно атмосфере или воде океанов. Когда идет человек, он растет, когда остановится, то уменьшается в объеме и т. д.
Итак, если рядом предыдущих рассуждений мы пришли к полным абсурдам, то нам ничего не остается, как принять, что органы животного вовсе не могут изменяться от упражнения. А отсюда ясно, что спорить о наследственной передаче того, чего не существует, было бы по меньшей мере странно. Но так как такие споры в ученой литературе существуют, то нельзя не привести из них хоть коротеньких выдержек.
С одной стороны, говорит Герберт Спенсер, не подлежит сомнению, что в течение жизни организма изменения в его функциях обязательно влекут за собою изменение в строении, а с другой — ничто не мешает принять гипотезу, что изменения строения, вызываемые таким образом, могут быть унаследованы (9). Но Дарвин о том же выражается более осторожно: «Во многих случаях есть основание предполагать, что уменьшенное употребление подействовало на соответствующие органы у потомка. Но нет положительных доказательств, чтобы это когда-нибудь случалось в течение одного поколения. Кажется, что несколько поколений должны быть подвержены измененным привычкам, чтобы получился какой-нибудь видимый результат» (10).
Едва ли не самым ярым защитником наследственности «функциональных приобретений» является Герберт Спенсер. На него ссылается Дарвин (11), а известный Август Вейсман надписал ему в ответ целую книжку (12). И вот этот-то защитник сознается, что «для наследственной передачи функциональных приобретений прямых доказательств мало, и притом настолько мало, что доказательства эти являются как бы случайно» (13).
Действительно, самым главным, а может быть, даже единственным доказательством считаются опыты Броун-Сэкара над морскими свинками, произведенные в сороковых годах. Мы находим ссылку на них: у Дарвина (14), у Герберта Спенсера, у Романэса и у Альсберга (15). Опыты заключаются в том, что перерезкой нерва вызывалась у морских свинок эпилепсия, которая передавалась наследственно их потомкам.
По словам профессора Вейсмана, опыты эти должны быть подвергнуты строгой критике, прежде чем можно будет придавать им серьезное научное значение. Новые же опыты в этом направлении заключаются в таких кратких сообщениях, по которым нельзя сделать никакого приговора. «Но прежде чем последует правильная постановка опытов, — заключает профессор, — можно, сказать с Дюбуа-Рэймондом: „Если быть честным, то нужно признать, что наследственность приобретенных свойств остается до сих пор совершенно темной гипотезой, нужной только для объяснения фактов“» (16).
Балль, написавший целую книгу в опровержение той же гипотезы, в заключение называет ее «гипотезой бесполезной и невероятной» (17).
Наш профессор Шимкевич пишет о том же: Броун Сэкар и другие утверждали, что искусственно вызванная эпилепсия у морских свинок (например, ударами по голове) передается по наследству. Зоммер произвел ряд опытов в этом направлении (эпилепсия вызывалась перерезкой седалищных нервов) и пришел к отрицательным результатами болезнь не наследуется потомством (18).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: