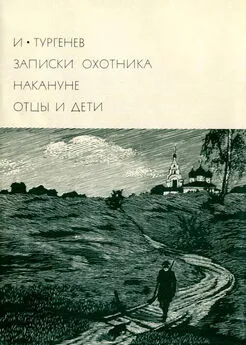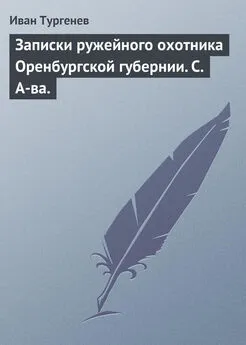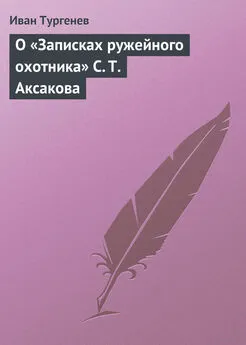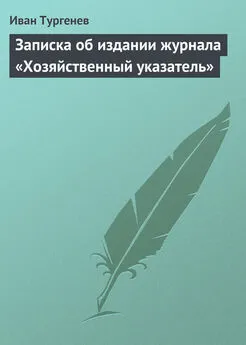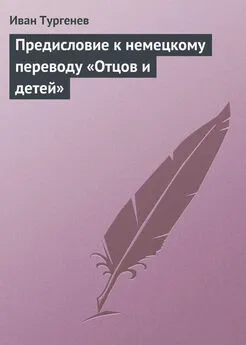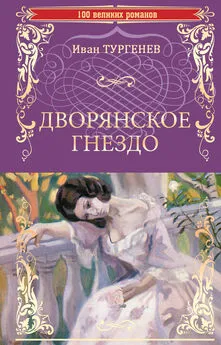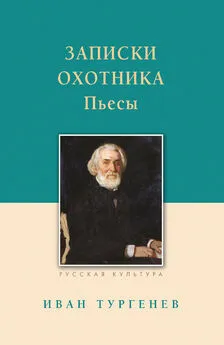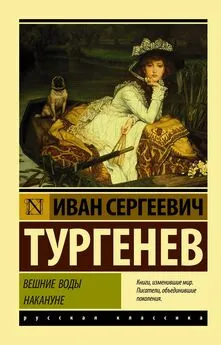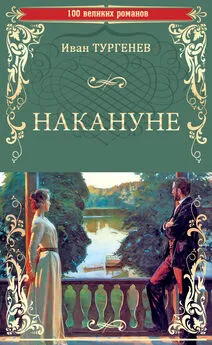Иван Тургенев - Записки охотника. Накануне. Отцы и дети
- Название:Записки охотника. Накануне. Отцы и дети
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1971
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Тургенев - Записки охотника. Накануне. Отцы и дети краткое содержание
Вступительная статья С. Петрова.
Примечания: В. Фридлянд — к «Запискам охотника»;
А. Батюто — к «Накануне» и «Отцы и дети»
Иллюстрации В. Домогацкого
Записки охотника. Накануне. Отцы и дети - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На страницах своей книга Тургенев воскресил мрачные истории из жизни своих предков, лихих крепостников, вельмож старинного покроя. Отголоски похождений отца Варвары Петровны — Петра Ивановича Лутовинова звучат в «Однодворце Овсяникове». Сохранилось предание о жестокой расправе помещика с однодворцами, осмелившимися запахать «ничейную» землю. «В числе владений П. И. Лутовинова было село Топки… Там, вероятно, и произошло побоище с однодворцами… После побоища, в котором было убитых до 15 человек», Лутовинов «собрал все мертвые тела и повез их в город Ливны, едучи туда через селение противников, зажег оное с обоих концов и кричал: «Я бич ваш!» (Б. В. Богданов, Предки Тургенева. — «Тург. сб.», вып. V, стр. 348). В рассказе «Смерть» Тургенев привел действительный факт из биографии своей бабки (со стороны В. П. Лутовиновой): «В рассказе «Смерть»… — вспоминает В. Н. Житова, — описаны ее последние минуты: барыня, заплатившая сама священнику за свою отходную, была родная бабка Ивана Сергеича» (В. Н. Житова, Воспоминания о семье И. С. Тургенева, Тула, 1961, стр. 23). «Истинным происшествием» называет сам Тургенев события, послужившие основой сюжета «Живых мощей», рассказа, снискавшего мировую известность. В письме к Людвигу Пичу Тургенев называет имя парализованной женщины, ставшей прообразом Лукерьи: «Клавдия (это было ее настоящее имя)… Я посетил ее летом» (Письма, X, 229, 435). Но возможно, что в Лукерье слились два реальных женских образа. Речь идет о крепостной красавице Евпраксии, первой певунье и плясунье, с которой семнадцатилетний Тургенев был близок (Письма, VII, 138).
В 1856 г., после смерти Николая I, Тургенев задумывает второе отдельное издание «Записок охотника», которого, по словам Добролюбова, «уже несколько лет с таким нетерпением ожидала терпеливая русская публика» («Современник», 1859, № 2, отд. «Новые книги», стр. 289). Однако появилось оно только в самый канун отмены крепостного права. Издание стало возможным тогда, когда то, что вменялось в вину тургеневским «Запискам», можно было официально объявить их достоинством. Это и сделал И. А. Гончаров (исполнявший в 1858 г. обязанности цензора) в своей докладной записке, в которой он нарочито подчеркнул, что книга Тургенева «скорее может подтвердить необходимость принимаемых правительством мер» по отмене крепостного права. В феврале 1858 г. «Записки охотника» были разрешены к переизданию. В 1859 г. второе издание вышло в свет.
Начиная с 1859 г. «Записки охотника» получили «права гражданства» в России и стали одним из наиболее часто издаваемых произведений Тургенева как в составе собраний сочинений писателя, так и отдельной книгой. Впервые они были включены в собрание сочинений в 1860 г. и дополнены двумя новыми рассказами: «О соловьях» и «Поездка в Полесье». Однако уже следующее издание —1865 г. (также в составе собрания сочинений) вышло без этих двух рассказов. Очевидно, писатель, необычайно бережно относившийся к своей книге, боялся нарушить ее жанровую и стилевую цельность. До некоторой степени именно особой художнической щепетильностью объясняется и то — обстоятельство, что не все замыслы, относящиеся к «Запискам охотника», нашли свое окончательное воплощение. Всего их было, по словам Тургенева, «заготовлено около тридцати». «Иные очерки остались недоконченными из опасения, что цензура их не пропустит; другие — потому что показались… не довольно интересными или не идущими к делу» (письмо к Я. П. Полонскому от 25 января/6 февраля 1874 г.; Письма, X, 191). К числу последних, то есть «не идущих к делу», можно отнести такие замыслы, — как «Приметы», «Безумная», «Человек екатерининского времени». Замысел рассказа, условно названного «Приметы» — о дурных предчувствиях и предзнаменованиях, — действительно не был созвучен ясному и строгому тону «Записок». «Человек екатерининского времени» — этот замысел, относящийся к «веку минувшему», нашел свое частичное воплощение в одном из образов (вельможи) в рассказе «Малиновая вода». Реминисценцией другого неосуществленного тургеневского замысла «Безумная» (возникшего после встречи писателя в лесу с безумной женщиной), по всей вероятности, является рассказ одного из мальчиков в «Бежином луге» о потерявшей рассудок Акулине и связанное с этим рассказом воспоминание самого. Тургенева.
Окончательно состав «Записок охотника» сформировался в 1874 г., когда Тургенев ввел в книгу три «новых» рассказа — «Живые мощи», «Стучит!», «Конец Чертопханова». Но, в сущности, они не являлись новыми рассказами в полном смысле этого слова. Два первых из них были основаны на старых неоконченных набросках, относящихся к 40-м годам и не завершенным по цензурным причинам. «Конец Чертопханова» представлял собой естественное продолжение новеллы «Чертопханов и Недопюскин». Тургенев, узнав о трагической судьбе человека, явившегося прототипом Чертопханова, написал рассказ, который как бы завершал историю, начатую еще в 1848 г. Первоначально «Конец Чертопханова» был опубликован в 1872 г. в «Вестнике Европы» с подзаголовком «Из записок охотника». Появление нового рассказа в 70-е годы веполошило друга Тургенева, П. В. Анненкова: «Какая прибавка, какие дополнения, украшения и пояснения могут быть допущены к памятнику, захватившему целую эпоху и выразившему целый зарод в известную минуту, — взволнованно писал Тургеневу Анненков 23 октября/4 ноября 1872 г. — Он должен стоять — и более ничего. Это сумасбродство — начинать сызнова «Записки» (Сочинения, IV, 508). Между тем Тургенев ничего диссонирующего не ввел в свою книгу — «мемориал» эпохи крепостного права.
О «Живых мощах» Тургенев писал Анненкову, что, воспользовавшись «уцелевшим наброском», он «оболванил его». Писатель исключил из поздней редакции сцену «видения» Лукерьи («тираду об освобождении»), в которой она благословляет крестьян на борьбу за волю (Письма, X, стр. 189, 193). Но и в редакции 1874 г. Тургенев в самом главном сохранил изначальный замысел о героическом русском характере, способном на великое «долготерпение» (до поры до времени), наделенном силой мужественно переносить самые тяжкие страдания. Исключив «тираду об освобождении», Тургенев ввел иной, едва ли не более острый сюжет — Лукерья, рассказывающая на особый, житийный лад легенду о Жанне д’Арк. Гибель легендарной героини Франции за свободу своего народа воспринимается тургеневской Лукерьей как идеал человеческого поведения, настоящий подвиг. В статье «Живые мощи». Житийная традиция и «легенда» о Жанне д’Арк в рассказе Тургенева» исследователь (Н. Ф. Дробленкова) не без оснований замечает,' что введение этой легенды в сюжет произведения в какой-то мере привносит в первоначальный замысел Тургенева дополнительные оттенки — с ней «появлялось утверждение гражданских идеалов его героини», а также и совсем новая для «Записок охотника» тема «сопоставления судеб и путей России и Европы» («Тург. сб.», вып. V, стр. 300).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: