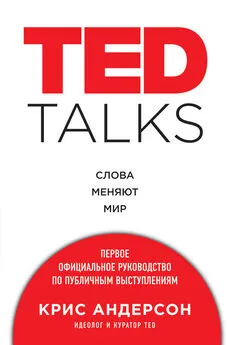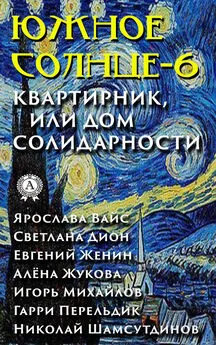Марьян Беленький - Южное солнце-4. Планета мира. Слова меняют оболочку
- Название:Южное солнце-4. Планета мира. Слова меняют оболочку
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марьян Беленький - Южное солнце-4. Планета мира. Слова меняют оболочку краткое содержание
Строка из поэзии Николь Нешер «Слова меняют оболочку» стали подзаголовком, настолько они афористичны.
Темы произведений многообразны, как и многоОбразны. Лирика, юмор, сатира, но не уйти от боли, которая проливается сейчас и в Израиле, для кого-то выбранного мишенью для уничтожения, и в мире.
Боль стекает со страстного пера плачем по прошлому:
«У Холокоста зверское лицо,
Тел убиенных невесомый пепел.
И память в мозг вонзается резцом»,
— взывает Николь Нешер.
В прозе у Ефима Гаммера соединены в один высокопробный сплав историзм повествования с оригинальностью изложения, широкой географией и подтекстом изображения персонажей в узнаваемых «масках».
В короткой прозе и поэзии Виктории Левиной, почти ежедневно мелькающей в сводках победителей и лауреатов международных конкурсов, мастерский срез эпохи со всеми привходящими и будоражащими моментами в мозаике.
Юмор Марьяна Беленького, автора давно полюбившихся монологов для юмористов и сатириков, «папы» — создателя Тети Сони в особом представлении не нуждается.
Антология — копилка творческих находок и озарений для читателей любых возрастов и национальностей. cite cite
Южное солнце-4. Планета мира. Слова меняют оболочку - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Как же ты набираешь, Филя? — спрашивали у него, клюнув на анекдотическую версию.
— Вслепую.
— И что у тебя получается в результате?
— Хотите для смеха услышать «Филькина грамота»?
— Но ты что-то сечешь в собственном наборе, Филя?
— Сейчас секу и подсекаю.
— А раньше?
— Раньше понимал только на родном-домашнем: мама — латышка, папа — старый латышский стрелок.
— Значит, еврей?
— Интернационалист.
— Ты и с ним «по латвиешу рунал» или на идише «шпрехал»?
— И по-латвийски, и на идише, еще и по-английски.
— Поэтому и взяли на русский линотип?
— Еще и рекомендацию дали в типографию, что я политгод.
— Что-что?
— Политгод по призванию.
— Полиглот?
— Он самый.
— И линотип не взрывается у тебя от перегрева?
— Отливает, как миленький.
— Прости, дружок, но «отливают» в сортире.
— А что? И в сатире! Понадобится — отольем!
Названный по настоянию матери на западный манер Филом, он жил не в ладах с языком, на котором работал, хотя довольно сносно учился на подготовительных курсах при Московском полиграфическом институте. К слову, вместе со мной. А к слову в подверстку добавим: в настоящий момент Фил Гутманис, опять-таки вместе со мной, поступал на заочное отделение редакторского факультета, полагая, что до шестого курса будет списывать у меня сочинения. Но списывание ему не помогало. И он по-прежнему, как в детские годы, в пору параллельного, под давлением просвещенных родителей осваивания сразу нескольких языков, путался в русском.
Следует отметить, что разговорную практику он проходил у своего отца Давида Львовича Гутманиса, знающего язык Пушкина много хуже идиша, хотя в семнадцатом, в разгар революции мог изучить превосходно: находился в Петрограде и охранял, по его заверениям, самого Ленина в Смольном.
Отсюда и вся неразбериха с подачей мысли. Допустим, Филя намеривался сказать: «я сходил на ралли», а выходило: «сходил на реалию». Вот и попал под поезд насмешек и превратился сначала в Филю-Путаника, а затем, когда поспела прибавочка на ужин для местных зубоскалов, стал ПростоФилей. Так и называли его за глаза. Иногда и в глаза. Но он не куксился, не выказывал обиды, наоборот, сам подбрасывал хворост в огонь, путая значение слов. Подчас казалось, это доставляло ему удовольствие. Создавалось впечатление, что путаница происходит в нем не спонтанно, а тщательно подготовлена, как экспромты у некоторых поэтов, поговаривали, что и у самого Сергея Есенина.
Так это или не так, но за животики приходилось держаться при спонтанном открытии его рта. А рот он открывал непременно. Стоило закончить с набором, как начиналась цирковая программа:
— Фу! Отлил твою бредятину! Зови метранпажа!
— Сашу?
— Молчать на эту тему нельзя! На смене Инга.
— Та, в косыночке?
— Отличная френда! Я у нее взял на обмен английский пенис.
— В обмен на свой? — среагировал я, смеясь.
— В обмен на рубль. У меня английского пениса нет.
— Может быть, пенса? А, Филя?
— Ну, пенса… От перемены мест слагаемых сумка не меняется.
— Сумма.
— Ну, сумма…
— А смысл?
— Ну, смысл… все равно бытие определяет сознание. Как твое бытие?
— Вечером — на танцах.
— Встретимся, там и определим.
— Если найдем в загашнике.
— Бутылка с меня.
Мое бытие было в полном порядке, сознание не замутнено. Отпишусь и на танцы в «Глобус» — клуб работников торговли. Некогда здесь, в созданном папашей Хайтовичем детском ансамбле аккордеонистов, был я не последней «скрипкой» и даже снялся для киножурнала «Советская Латвия». Не в гордом одиночестве, конечно. А в составе оркестра. При коллективном исполнении вальса «Амурские волны».
Мы стояли на ковровой дорожке мраморной лестницы Дворца культуры завода ВЭФ, я с правого края, и кинооператор, поднимаясь по ступенькам, крупным планом вобрал меня в камеру: всего, каким выставлялся. А выставлялся я во всю открытость мальчишеской улыбки: американский пиджак, родом из Детройта, золотистого цвета, купленный в комиссионке по случаю моей «бар-мицвы» — тринадцатилетия, галстук-птичка, будто уже маэстро сцены, и вихры блондинистых волос. Хоть на плакат: «Юность свободной Латвии в лицах». Мое, согласен, соответствовало. Потому меня и запечатлели для истории крупным планом: латыш — русский, кто там определит в зрительском зале? А моих не совсем арийских коллег вместе с их «Вельтмейстерами» прокатывали по экрану панорамой, чтобы семитский разрез глаз не испортил общую картину. И то: перед мастерами камеры стояла партийная задача — отразить благоденствие прибалтийской республики, получившей свободу от фашистских оккупантов из рук русского брата по классу и крови.
Ну, и отражали.
В меру сил и способностей.
Что получилось, то получилось. Главное — музыка. Она же, почитаемая Моцартом, Чайковским, Шостаковичем и нашими современниками из партийных товарищей, ответственных за культурный досуг народонаселения, возносилась на должную высоту нотного стана. Вальс «Амурские волны» в неотразимой подаче ансамбля аккордеонистов вывел оный в лауреаты какого-то республиканского фестиваля. Названье-прозванье? Точно не упомню. Пионерского, либо даже комсомольского — вундеркинды! Но это и не важно. Медали за ратный подвиг все равно не раздавали. А по газетам пропечатали.
Тогда, на подъеме юношеских лет, впервые увидев свою фамилию не в школьном журнале, не в табеле успеваемости, а на богатой фотографиями странице «Молодежки», причем, рядом с другим сыном Риги — Сергеем Эйзенштейном, я и подумал: «надо бы повторить!»
И повторил, сочинив для этого стихотворение.
Что скрывать? Вдохнув запах типографской краски, уже не вырвешься из притягательных тенет и остаешься преданным до упора наркотическому воздуху прессы. Тем более, что им пропитываешься не где-нибудь на задворках, а в самом центре Риги. Адрес? Пожалуйста, вот вам надежный ориентир. На улице Горького, через дорогу от Академии художеств, напротив Спортивного клуба армии.
Здесь располагалась наша типография, а этажом выше две редакции детских латышских изданий — газеты «Пионерис» («Пионер») и журнала «Драугс» (Друг). Этим, однако, не ограничивался набор местных достопримечательностей, главная из которых… Да-да, в этом старинном здании, отнюдь не похожем на роддом, появился на свет 22 января (по старому стилю 10 января) 1893 года постановщик фильмов «Броненосец Потемкин», «Александр Невский» и прочих, занесенных в разряд «мировая классика».
Но сия, ушибительная для мозгов информация дошла до меня с опозданием чуть ли не в семьдесят лет. И не потому, что я был тугодум. К тугодумам скорей следовало причислить тружеников канцелярского пера и чернил из горисполкома. Только сейчас, с опозданием на хороший кусок исторически звучащего времени, они додумались вывесить мемориальную доску. И она, можно сказать, ударила мне по кумполу. Нет, не в прямом смысле. В переносном. Но все равно болезненно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: