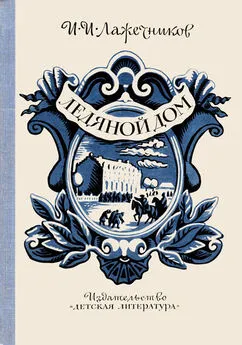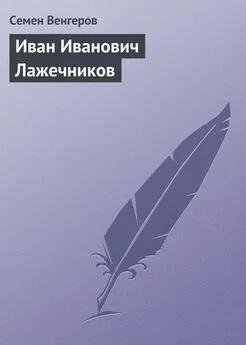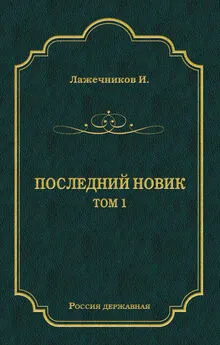Иван Лажечников - Беленькие, черненькие и серенькие
- Название:Беленькие, черненькие и серенькие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский дом Лига
- Год:2010
- Город:Коломна
- ISBN:978-5-98932-014-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Лажечников - Беленькие, черненькие и серенькие краткое содержание
Повесть И. И. Лажечникова «Беленькие, чёрненькие и серенькие» (1856) — хроника уездного городка Холодни, в котором узнаётся Коломна на рубеже XVIII — XIX веков. Знаменитый автор исторических романов соединил здесь семейные предания с гротесковой сатирой и любовной идиллией, колоритно изобразил провинциальные нравы. Книга снабжена комментариями, помогающими ей предстать перед современными читателями своеобразной «энциклопедией староколоменской жизни».
Текст публикуется по печатному изданию.
Лажечников, И. И. «Беленькие, чёрненькие и серенькие» / Вступительная статья, подготовка текста, комментарии В.Викторовича и А. Бессоновой; художник П. Зеленецкий. — Коломна: Лига, 2010. — 304 с.: илл. — (Серия «Коломенский текст»).
Автор и руководитель проекта «Коломенский текст» — В. А. Викторович
Издание осуществлено при поддержке
НП «Город-Музей»
НП Культурный центр «Лига»
ISBN 978-5-98932-014-1
Беленькие, черненькие и серенькие - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Опять спросим, отчего ж такой смиренный, ветхий домик, мрачно глядевший на пустыре, такой бедный экипаж и прислуга — и вместе такое общее уважение жителей Холодни к Пшеницыным? Загадка была легка; её давно разгадала Прасковья Михайловна: отец мужа её был — миллионер. Миллионер того времени!.. Максим Ильич имел ещё брата, который жил в Москве. Старик-богач здравствовал. Он давал сыновьям на содержание только то, что ему вздумается, да и в том требовал отчёта. Итак, жители кланялись богатым надеждам.
Ванин дедушка, Илья Максимович, широко торговал хлебом, производил значительные поставки в казну, которые едва ли не с начала XVIII столетия удерживались в роде Пшеницыных, имел серный завод в N губернии, фабрики парчовые и штофные в Холодне, несколько лавок для отдачи внаймы в этом городе и дома в нём и в Москве [53] Ванин дедушка, Илья Максимович, широко торговал хлебом ... имел ...несколько лавок ... и дома.. . — Прототипом Ильи Максимовича Пшеницына был дед писателя, коломенский купец первой гильдии Илья Акимович Ложечников (1730 — 1795). Согласно обнаруженным архивным документам, Ложечниковы, дед и отец писателя, на рубеже XVIII и XIX вв. вели хлеботорговлю, осуществляли поставки соли, владели штофной фабрикой (где производились штоф и парча) и кожевенным заводом в Коломне, серным и купоросным заводом в Рязанской губернии, несколькими домами, лавками и погребами в Коломне (на Большой Астраханской улице, в Запрудной и Лубянской слободе), двумя домами в Москве. Парча — ткань из шёлка, серебряных и золотых нитей. Как отмечает историк костюма, «парча в первой половине века была сословной тканью для купчих», два других потребителя роскошной материи — царский двор и церковь (Кирсанова Р. М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. Калининград; Москва, 2001. С. 82 — 83). Штоф — плотная шёлковая ткань различного переплетения. В XVIII — начале XIX вв. относился к дорогим материям и использовался, в частности, для обивки стен. Делал поставки в казну — то есть поставлял хлеб для государственных нужд. Подряды на поставку провианта в казну были весьма выгодны для купечества, так как государство давало значительные оборотные средства в качестве аванса и гарантировало прибыль.
. Дела свои вёл он деятельно, с точностью и честно; слову его верили более, чем акту [54] ... слову его верили более, чем акту... — То есть больше, чем официальному документу о сделке.
. Лет через двадцать после того, как начинается наш рассказ, случилось Ивану Максимовичу в одном обществе быть представленным сенатору и чрезвычайно богатому человеку, князю Д* (умершему едва ли не столетним стариком) [55] ... сенатору и чрезвычайно богатому человеку, князю Д* (умершему едва ли не столетним стариком) ... — Возможно, речь идёт о князе Юрии Владимировиче Долгоруком (1740 — 1830), военном деятеле, генерал-аншефе, участнике Семилетней (1756 — 1763) и русско-турецкой войн (1768 — 1774), Московском градоначальнике (1797). Ю. В. Долгорукий был владельцем имения Никольское-Архангельское под Москвой (ныне Балашихинский район), где жил безвыездно во время отставки в 1790 — 1793 гг. Это позволяет предположить его знакомство и коммерческие связи с дедом Лажечникова.
. «Очень рад, очень рад с вами познакомиться, молодой человек, — сказал сенатор, положив руку на плечо Пшеницына. — Мы с твоим дедушкой были большие приятели, делали и дела не малые. Времена были не те, что ныне. Теперь дашь деньги и на актец [56] ... дашь деньги и на актец ... То есть документально оформишь заём.
, глядишь — пропадают, или получишь их с великими хлопотами да с помощью подьячих. Высосут у тебя мошенники не только деньги, но и кровь [57] ... с помощью подьячих. Высосут у тебя мошенники не только деньги, но и кровь. — Подьячий — низший административный чин в XVI — XVIII вв. Делопроизводитель в государственных учреждениях, в данном случае в суде. В 20-е годы XVIII в. их заменили канцеляристы, но в обиходной речи их по-прежнему называли подьячими. Дурная слава должности отражена В. И. Далем: «Подьячего бойся и лежачего!», «Подьячий любит принос горячий», «Подьячий и со смерти за труды просит».
. С дедушкой твоим вели мы дела иначе. Бывало, понадобится тысяч десяток, двадцать, и шлёшь к нему цидулку [58] ... шлёшь к нему цидулку. Цидулка — письмо, записка, послание.
: пришли-де, приятель, на такой-то срок. Или ему понадобится. Давали друг другу без расписки, на слово, и день в день получали обратно свои денежки. Всё это стоило только одного спасибо. Да, да, — прибавил князь, вздыхая, — ныне времена другие».
Смутно помнил Иван Максимович, как пришла в Холодню весть, что скончалась «матушка Екатерина Алексеевна», как отец его побледнел и прослезился при этой вести, как в городе все ходили повеся нос. Сначала думал Ваня, что умерла родная мать отца его. Но Максим Ильич сказал, что той давно уж нет на свете, а скончалась государыня, благодетельница русского народа [59] ... скончалась государыня, благодетельница русского народа. — Речь идёт о Екатерине II Великой (1729 — 1796), императрице Российской (1762 — 1796), период правления которой называют золотым веком Российской империи. Екатериной Алексеевной немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская стала после принятия православной веры.
. «Люби и уважай память её во всю жизнь свою, да и детей своих, коли будут, учи тому ж», — сказал он и поставил Ваню пред иконой Спасителя и велел положить три земных поклона, со крестом, да приговаривать: «Спаси, Господи, и упокой душу рабы твоей императрицы Екатерины».
Между тем мечты Прасковьи Михайловны начинали осуществляться. Свёкор писал ей, что он очень хворает, не встаёт с постели, и просил навестить его, так как муж её в дальней отлучке. Хотя наступил февраль, на дворе были сильные морозы; наскоро собралась она и поехала с сынком. Тогдашние холоденские ямщики делывали в зимний путь сто вёрст [60] ... холоденские ямщики делывали в зимний путь сто вёрст... Ямщик — кучер на казённых лошадях, приписанный к почтовой станции. Однако Прасковья Михайловна торопилась и поехала, как увидим, без документов, поэтому наняла вольного ямщика. Такая езда обходилась дороже. Верста — старая русская мера длины, равная 1,06 км. Указателем расстояния были полосатые чёрно-белые верстовые столбы.
, не кормя, в девять часов. Для скорости, чтобы поспеть в Москву в семь часов, она переменила лошадей на половине дороги, в Б-ах [61] ... переменила лошадей на половине дороги, в Б-ах. — В Бронницах.
. В первом селе отсюда осадили кибитку [62] В первом селе отсюда осадили кибитку рои девочек. — Скорее всего, это село Велино Бронницкого уезда. Кибитка — крытый экипаж, повозка, имевшая деревянные дуги, на которые натягивалась рогожа.
рои девочек с криком: «Булавочку, барыня, пригожая!» — и едва ли не с версту бежали, запыхавшись, за булавочкой. В Островцах дали лошадям перехватить по ковшу воды [63] В Островцах дали лошадям перехватить по ковшу воды. — Деревня Островцы (ныне Раменского района) находилась в 29 верстах от Москвы и принадлежала графскому роду Шереметьевых. Здесь был постоялый двор, ямская станция, где можно было переночевать, сменить лошадей.
. Пока ямщик занимался этим делом, кибитку обступила толпа, большей частью женщин и ребятишек. В числе молодых баб много было пригожих. Золотые кички крепко, как в тисках, стягивали их лбы, а сзади шеи, почти до плеч, упадала блестящая стеклярусная сетка [64] ... Золотые кички ... стягивали их лбы, а сзади шеи... упадала блестящая стеклярусная сетка. Кичка (кúка) — старинный женский головной убор. Историк И. Е. Забелин назвал её «короною замужества». Кичка закрывала волосы (замужняя женщина не должна показываться на людях простоволосой) и имела впереди твёрдую часть в форме рогов, лопатки, копытца. Украшалась кичка бисером, жемчугом или вышивкой (например, золотой нитью). Сзади был «позатыльник» из бисера, в данном случае стекляруса. Утягивать лоб и виски считалось модным.
. У всех в ушах пестрели стеклярусные подвески и на шее такие же ожерелья; зачерствелые от работ пальцы унизаны были медными перстнями и кольцами. Поступь их была важная и даже грациозная. Стан держался прямо, но юбочка, понёва [65] Понёва — женская шерстяная юбка из трёх и более частично сшитых кусков ткани. Понёву носили вместе с кичкой замужние женщины
, из шерстяной клетчатой материи, похожей на шотландку, и подвязанная очень низко, с каждым шагом колебалась из стороны в сторону. Замечено, что на этот шаг из крестьянских кокеток есть особенные мастерицы. Много безобразила их обувь. Шерстяные толстые чулки в бесчисленных сборах спускались к котам [66] Кóты — женская обувь, род полусапожек.
, а у беднейших к лаптям. Сапоги по колено означали особенное внимание к ним мужей. Спустя с плеча левый рукав овчинного полушубка, обшитого у иных котиком [67] ... левый рукав овчинного полушубка, обшитого у иных котиком. Полушубок — верхняя зимняя одежда до колен. Котиком назывался, например, мех сурка, которым отделывались полушубки.
, молодые бабы, большей частью, опирались на плечо своих подруг и лукаво пускали на проезжих стрелы своих карих или серых глаз. Похвалы их или критические заметки сопровождались рассыпным хохотом, иные мурлыкали про себя отрывки песен. Дети, несмотря на мороз, были в одной рубашонке (заметить надо, очень чистой). Издали многие из них казались ходячею огромною шапкой, клочком рубашки и двумя огромными сапогами. По сторонам каждого из этих движущихся чучелок мотались рукава рубашки, потому что руки у всех спрятаны были под пазухой. Прасковья Михайловна заметила, что в толпе женщин две молодки держали перед собою по одному мальчику в рубашонке, защищая их от холоду полами своих шуб.
Интервал:
Закладка: