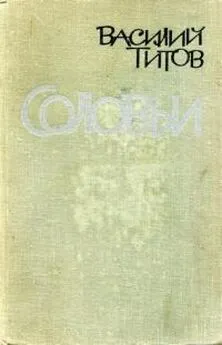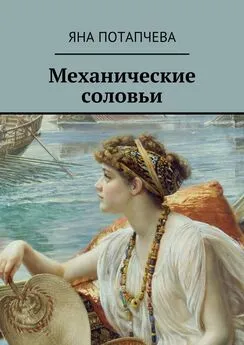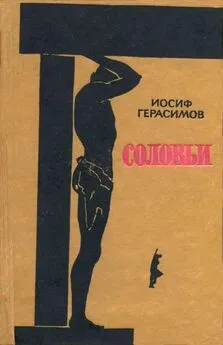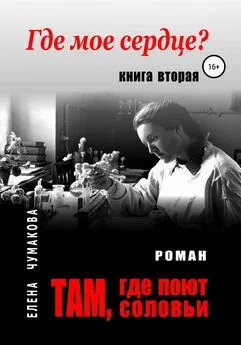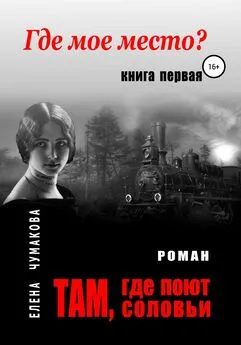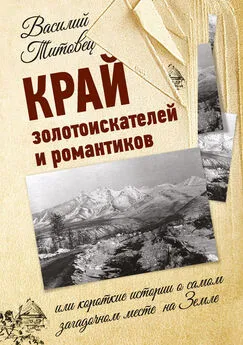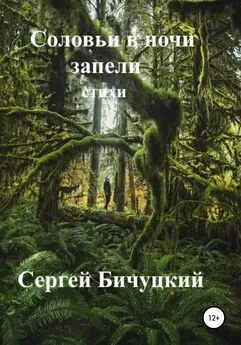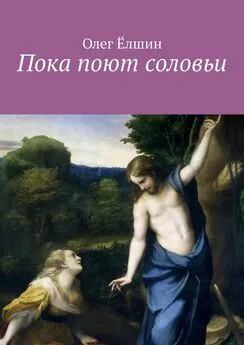Василий Титов - Соловьи
- Название:Соловьи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский рабочий
- Год:1967
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Титов - Соловьи краткое содержание
Соловьи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Не понимаю, не понимаю, — говорил Пармен Парменыч, — зачем ему стихи перепечатывать. На это типографии существуют. А где он бумагу берет?
— Она в магазинах есть. Машинки тоже в комиссионных продаются.
— Ну, знаете, не указывайте! А может, он украл. Меня не машинка интересует, а человек за машинкой.
Текучев ничего не ответил на это. Спросив: «Разрешите идти?» — вышел от него.
На время Промедлентов оставил «дело» Гондурасова, как бы забыл про него. Больше всего с этого дня он был занят тем, как отделаться от Текучева.
О Текучеве начальство вспомнило с первыми «сигналами» от Промедлентова и избавило Текучева от начальника — отослало его на учебу.
О «деле» Гондурасова Промедлентов вспомнил уже тогда, когда тот с Повидловым был знаком и когда уже раза два стихи Гондурасова напечатал в «Голосе житухинцев» Аким Равнов. Стихи были о житухинских полевых просторах, о хлебных осенних днях, о весне и грозах.
— Это здорово у тебя получилось! — говорил Егору Аким Равнов и с удовольствием читал:
И, освеженная грозою,
Черемуха звала в леса!
Равнов напечатал даже две репродукции с картин Гондурасова под «шапкой» — «Наш художник». На репродукциях были стога сена под луною на речке Соловухе и речная равнина под туманом и закатом. Под этой репродукцией была подпись: «Соловьи». Репродукции всем нравились. Сам Гондурасов утверждал, что черно-белые репродукции получились лучше самих картин.
С Повидловым у Гондурасова были более тесные отношения, потому что оба были причастны к поэзии. Егор ценил его за то, что старик знал поэзию не только свою, а вон даже до японской добрался. Он не плохо знал таджикскую и иранскую литературу, но особым увлечением его были частушки. Им он посвятил целое исследование, над которым теперь и работал. То, что Повидлов был полиглот и почти свободно говорил чуть ли не на двенадцати языках, делало его в глазах Гондурасова великаном. Христофор Аджемыч развивал перед Гондурасовым такую свою оригинальную теорию о началах устного и песенного народного творчества, что общность его истоков, даже если шел разговор о простой русской частушке, таджикских рубаи́ и даже японской та́нка, становилась очевидной.
— Разница в культуре, мастерстве, воззрениях — всюду разные, — сказал он хитро Гондурасову, — одной разницы никогда не бывает, но истоки творчества одни — сердце. Причем сердце и песня до тех пор твои только, покуда они при тебе. Но с того часа, как сердце отдало песню народу и она дошла до него, собственности на песню эту уже нет. Истинно народное творчество не знает собственности. Не чудесно ли? — спрашивал он Гондурасова.
Гондурасов говорил, что все это так, но, должно быть, пути к этому затерялись в дебрях времен и вряд ли возможен возврат к такому творчеству.
— Возможен! — возражал с жаром Повидлов. — Только для этого не надо быть над народом, а быть в нем и делать то, что делает он. Ведь пишут же, точнее, складывают же и сейчас частушки? Вот иду недавно и слышу — деваха какая-то во дворе поет. Делает там что-то и поет:
Я малинушку щипала,
Кажду ягодку брала,
А сама того не знала,
Что любовь не стерегла.
Ой, малинка слаще меда,
Духовитее духов,
От малинки до малинки
Мало ль думалось грехов.
Не смущай меня, малина,
Не густи во мне ты кровь,
Все равно уберегу я
Неоплошною любовь.
Христофор Аджемыч посмеивался от неподдельного восторга, убеждал Гондурасова:
— Вот она, видишь, как у нее малинка-то повертывается? Кому просто ягода вкусная, или ежели сушеная, так от простуды. А у нее вон от смущения до чистой любви нить бежит. И сложено не плохо. Должно, не один раз на голос примеряла, покуда на слух каждое слово не вынесла. А как вынесла, так и запела. А как запела, так это уже не ее, а для всех. Всехошняя частушка стала. Я много их знаю, а таких не слыхал. И вот теперь она и моя. А завтра я ее и по радио передам. И она уже всем принадлежать будет. На песню, как на малину лесную, запрета и собственности у народа нет.
— Ну, а как же эпика, поэмы, что ли? — перебил его Гондурасов.
— А как былины наши или сказания скандинавские? Есть у них автор один? Так и эпика может жить без автора-единоличника. Знаем ли мы автора «Слова о полку Игореве»? Нет, не знаем. Ищем, а не находим. Явно, что он у него был. А не находим. Значит, было так тогда устроено, что на песню хозяина нет. И выходит, что для всех петь надо, не для себя только. Народ не беднеет ни умом, ни сердцем. Надо только над ним не становиться.
Вот так беседовали Повидлов и Гондурасов. А в остальном, как все говорили о Повидлове в Житухине, он был просто «старичок, который работает на радио». Местный радиоузел пользовался у житухинцев уважением именно потому, что на нем работал Христофор Аджемыч. Христофор Аджемыч ни над чем не работал без души и пота.
Писал ли исследование о мотивах русских, татарских и мордовских песен здешней стороны, он изучал эти песни и мотивы досконально. Это исследование вышло у него в областном издательстве и получило высокую оценку музыковедов.
Исследовал ли он вопрос затухания и обеднения местных и соседних кустарных промыслов, все так же добросовестно и талантливо работал он, хоть дело это его мало касалось.
С тщательностью и добросовестностью начал он работу и на радиоузле в качестве единственного районного музыканта. Если он узнавал, что областное радио собирается передавать симфоническую музыку, он спешил узнать, какую именно, и перед этим рассказывал житухинцам, что это такое за жанр — симфония. Если он узнавал — в передаче будут исполнены увертюры из опер, он посвящал короткую передачу понятиям об увертюре. И уж ни для кого из жителей Житухина не было загадкой, что такое симфоническая поэма, музыкальная фантазия, скерцо, соната.
Голос у Христофора Аджемыча был мягкий, певучий, слова выговаривал он четко, красиво, любуясь ими. Даже несколько сладковат был как-то голос у Христофора Аджемыча, за что его часто называли Джемом Повидлычем беззлобные люди райцентра. Идут они по улице в вечерний час, особливо в субботу, слышат, как здоровенный, словно вокзальный, репродуктор разносит его голос по всему селу: «В симфонии всегда четыре части. Отдельные части симфонии следуют друг за другом по принципу контраста. Первая часть — аллегро, быстрая и энергичная».
И он так произнесет слово «аллегро», словно яичко крашеное по мураве покатит. А прохожие улыбнутся и уж запомнят, что такое это аллегро. А Христофор Аджемыч вторую часть объясняет — анданте. И опять так произносит это слово, что словно там, у микрофона, лучший итальянец сидит. А когда прохожие уже от центра села далеко удалились и, может быть, к дому подходят, все тот же голос Джема Повидлыча сообщает им, что завтра из большого центра будет такой-то и такой-то концерт и во столько-то часов, что уж волей-неволей послушать его захочешь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: