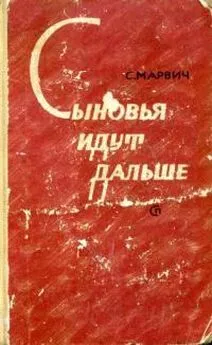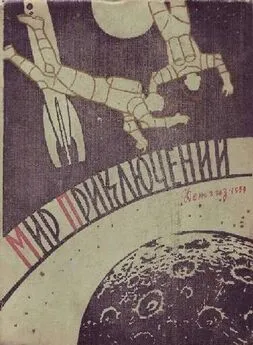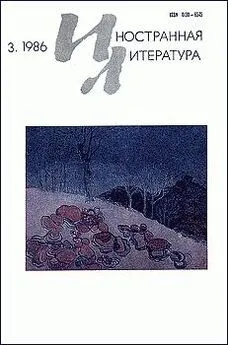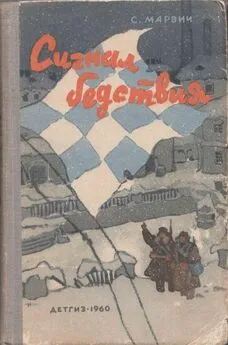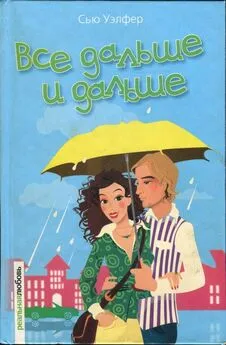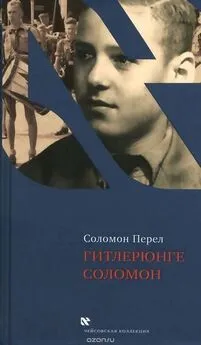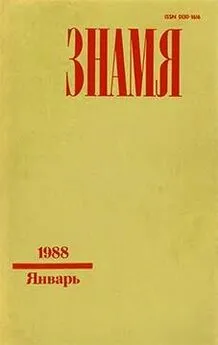Соломон Марвич - Сыновья идут дальше
- Название:Сыновья идут дальше
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1976
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Соломон Марвич - Сыновья идут дальше краткое содержание
Читатель романа невольно сравнит не такое далекое прошлое с настоящим, увидит могучую силу первого в мире социалистического государства.
Сыновья идут дальше - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Укладываясь спать на кроватях, на которых не было простынь, они продолжали торговаться.
«Макеевка? Где она, Макеевка?» — спрашивал сам себя Дунин.
Начинались новые расчеты. Месяц заново делали опись заводу. Адамов вычислил, что старого металла прокатке хватит на год. Потом покупать сталь или пускать мартен. Считали люди из партийного комитета, из завкома, инженеры, бухгалтера. Часто спорили. Выдвигались старые законы устьевских чисел, выдвигались как непреложность, которую не обойти.
— Товарищ Дунин, Филипп Иваныч, — инженеры разводили руками, — если считать по-вашему, то завтра хоть все наши цехи открывай, хоть с мартеном.
— А по-вашему как? Месяц лебедку на канале чинить! А кран в механической? Два месяца? Этак до второго пришествия завод не пустить.
— Не забудьте, товарищ Дунин, этот кран устанавливали полгода, и то считалось, что скоро.
— Это при «Дуньке» было.
— Что ж! «Дунька», конечно, умом не отличался, товарищ Дунин. Но тогда все было. А теперь из-за лампочки набегаешься.
В пылу спора они и не заметили игры слов.
— Гомеопаты вы, — сердился Дунин, — а не инженеры.
Тогда инженеры обиделись, и кто-то недобро напомнил:
— Мартен на дровах… Героическая утопия, только простите, не очень грамотная.
Дунин был оскорблен. Про мартен на дровах они помнят, а совещательную печурку забыли. Сколько раз в голодные времена Осипов, Мигалкин, тот же Чебаков выручали заказ, цех, честь завода! У своей совещательной печурки они находили выход, а инженеры тогда держались в стороне. Да кто же смеет забыть все это?
— Филипп Иваныч, — примиряюще начал Адамов, — я понимаю — в годы войны хоть и голод, и болезни, но требовался героизм, и он всегда был. Безотказно. А теперь ведь подсчет, расчет, цифра, деньги, и никуда от них не уйдешь.
— Какая цифра?
— Цифра всегда одна и та же.
— Вот вы как, Анатолий Борисович! От вас я этого не ожидал. Обидно слышать, честное слово.
— Что вы! Что вы! — Адамов попытался взмахнуть руками, тоненький карандашик выпал из его слабых пальцев и звякнул о стакан. — Но ведь и у станка есть законы. Станки ведь те же самые.
— Люди не те. Станки не учатся, а люди многому научились. Вот… почитайте. Вы скорее поймете, чем другие специалисты.
В кармане у Дунина лежало письмо. Вчера оно пришло из Астрахани. Там осели семь человек устьевцев. Живут, не голодают. Но пишут, что могут сразу приехать. Согласны пока идти в чернорабочие, соглашаются даже стать на биржу труда, лишь бы дождаться, пока снова пустят цех.
— Лом в цехах вы подсчитали, Анатолий Борисович, а людей надо по-новому считать. Плохо я сказал — не считать, а видеть, на что они способны.
— Да поймите меня, мне казалось — война одно, а теперь…
— А теперь сдаемся, — так, что ли? — перебил его Дунин.
Инженеры слушали молча. И молча не соглашались. А Дунину думалось о том, что кого-кого, но Адамова он без боя не отдаст этому несогласию. У Адамова глаза честные. Смотреть он не отказывается и не ленится. Надо его убедить, В партийном комитете Дунину говорили:
— За Адамова ты на Страшном суде будешь отвечать.
Нет, не отдаст он Адамова тем, кто зло поминает мартен на дровах.
После заседания они проговорили вдвоем до ночи. Дунин показывал Адамову письма из Астрахани, из Сибири. Показывал длинный список людей, которых не удалось еще разыскать. Где они? В Сибири? В братской могиле под Перекопом? Еще не скоро узнается это. Но через месяц на прежних местах будет еще тысяча устьевцев, к концу года — две.
— Хоть за фунт хлеба на первое время будут работать. Да как работать! Поднимут завод. А неподатливы эти ваши. Все еще не головой думают, а старой казенной фуражкой. Линейку свою знают, а что человек теперь не тот, так на это нет инженерского глаза.
Адамов то озадаченно повертывал тоненький карандаш, то чертил им на листе блокнота.
— Числам я отставку не даю. Не такой я серый. А вот и вы, Анатолий Борисович, говорили, что в войну все могут. А сейчас? Не могут, что ли? У себя не могут? Вы только почувствуйте это — у себя. Да этим все сказано.
— Но ведь не все же рабочие чувствуют это «у себя».
— Да, не все. И в бою не каждый храбр. А ведут храбрые. Если бы все теперь же почувствовали это «у себя», то мы бы горы своротили. Но придет время, и каждый поймет, что он «у себя».
Выше расчетов, выше старых чисел, линейки и чертежей стояла воля устьевцев. Лебедку на канале чинили не в месяц, а в неделю. Цех готовили не в три месяца, а в один.
В цехе, где чинили «Стеньку Разина», все еще валялась снятая с поезда, обгоревшая, пробитая броня, и вдоль путей стояли легкие горны. На станках осел густой слой плесени. Озоровавший в цехе мальчишка вывел пальцем смешную рожу и скверное слово. Изъянов было столько, что не все они попали в акты. И все-таки работы шли много быстрее, чем расписала комиссия инженеров. В спорах каждый раз побеждали устьевцы. Адамов охотно признавал свою ошибку, но спрашивал:
— Откуда вы это знаете, Филипп Иваныч?
— О чем вы?
— Я вот о чем — как вы можете рассчитать, что не в месяц наладить можно, а в неделю? Почему вы заранее видите, что люди осилят это? Что вам помогает видеть?
— Партия помогает, рабочий класс.
— Но ведь это общие слова, Филипп Иваныч.
— Общие — верно, но каждое это слово я пережил. И вам так надо. И каждому. Вот как переживешь это, все в мире яснее становится.
Адамов мягко улыбался и говорил:
— И все-таки не вполне понимаю. Выходит, что серый — это я. Серый с высшим техническим образованием. Да! — Адамов и печально, и как бы подшучивая над собой покачал головой. — Это придется признать. Не увидел нового в старой работе.
И вспоминался далекий зимний день, когда Дунин у него на глазах великолепно пристыдил наглого офицера. Все та же сила живет в этом маленьком человеке, и за пять лет она выросла еще больше.
А Дунин, верно, и не вспоминает о далеком зимнем дне.
3. Прокатка
От недавних годов запустения оставались провалы на дорогах, черные пожарища да лежала возле станции гранитная тумба. О ней забыли. И никто уже не знал, как она здесь появилась. Много старых устьевцев провозили в то лето почтовые поезда, а то и длинные, медленно передвигавшиеся составы, в которых были и теплушки, и вагоны четвертого класса. Неведомый шутник дал этим составам прозвище «Максим», которое в гражданскую войну стало известным всей стране.
«Почему же «Максим»?» — спрашивали непосвященные. «Потому, что горький это поезд. Долго идет он». И в самом деле, до революции такой поезд шел из Москвы до Петрограда сутки, а в гражданскую войну — два-три дня.
Сидя у громоздких узлов на платформе, дети дожидались, пока родители разыщут в Устьеве дома, где жили прежде. Дома стояли заколоченные, с разбитыми стеклами, отсыревшие. А бывало, что и не находили старого дома — разобрали его в тяжелый год на дрова. Через час-два Белоголовка, совсем уже дряхлая, полуслепая, везла в поселок со станции детей и узлы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: