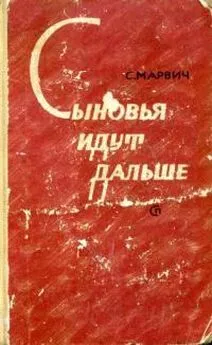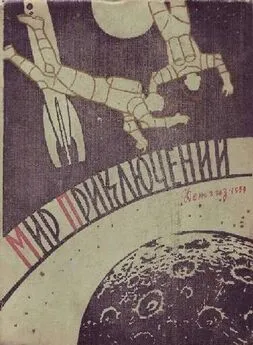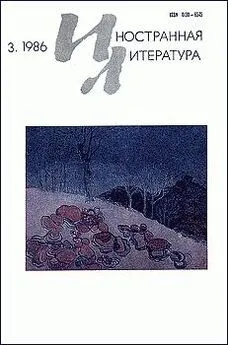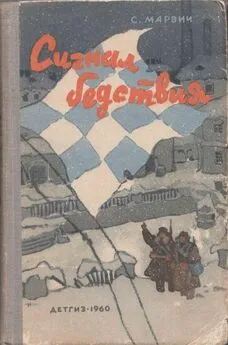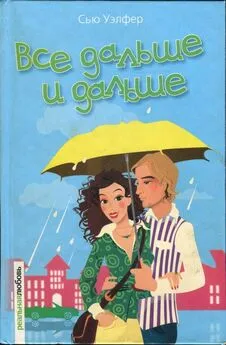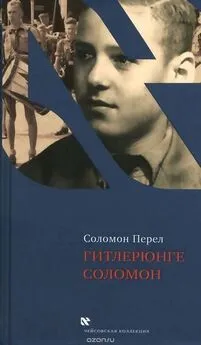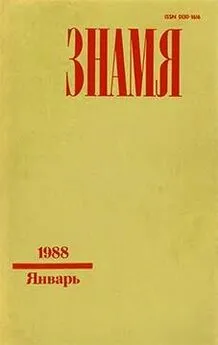Соломон Марвич - Сыновья идут дальше
- Название:Сыновья идут дальше
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1976
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Соломон Марвич - Сыновья идут дальше краткое содержание
Читатель романа невольно сравнит не такое далекое прошлое с настоящим, увидит могучую силу первого в мире социалистического государства.
Сыновья идут дальше - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И на другой же день свои люди пришли к станкам. А к полудню их опять выгнали. Но рыжий Блинов еще не сдавался. Он ходил по баракам и говорил:
— Чего ушли? Завтра чтоб быть на месте.
Но у лавочников с Лиговки, ларечников с Клинского, маклаков с Александровского рынка, у трактирщиков и извозчиков с Предтеченской, у фуражников со Старо-Невского была своя голова на плечах. И голова эта была поумнее, чем у Блинова: указатель ведь не выезжал из поселка, а они толкались по столице и многое видели, многое слышали.
— Да вот, говорят, на Трубочном, на Путиловском, на Обуховском — везде вразрез пошли.
— «На Трубочном, на Путиловском!» — злобно передразнивал Блинов. — Казаков идет несчетно!
— Так ведь на всех не хватит. Казаки для войны нужны. Столько с войны не снимешь, чтоб на всех.
— Говорю вам, хватит. Всем быть на работе.
— Мы бы рады, да…
— Не бойся, не тронут.
Но учетники сбежали в город отсиживаться. Чего только не натерпелись они на станции, пока ждали поезда! Узнали их. Мальчишки и те задирают.
— Учетнички, угоднички. Завтра гнать будем.
— Не тронь, пожалей. У них дрыжики и от нас и от начальства. Всего боятся.
С того дня и в бараках стало пусто.
Плывет утренний звон. Бьется он о ставни домов, тянется вдоль толпы озябших женщин возле запертой хлебной лавки. У каждой женщины в руках тоненькая книжка. Где она только не лежала, эта книжка, — за подкладкой картуза, в голенище, за божницей, в комоде. Она засалилась, потрепалась. На ней двуглавый орел, штамп Устьевского завода и десятка два неукоснительных правил. Три года подряд на эту книжку из каждой получки записывали в пай рубли. Хорошо бы получить старые рубли назад, хотя они и подешевели за годы войны. Но назад получают только по двугривенному в день.
Хлеба ждут с ночи. За час до звона подвозят его на санях, покрытых мокрой рогожей. Тяжел и черен февральский хлеб, последний хлеб царских годов. Нож в нем вязнет, как в глине. И не могут поверить женщины, что кусок, величиной в пачку махорки, тянет полфунта.
3. Неприметный дом
Два века тому назад в петровские времена по Московскому тракту, через Новгород и Валдай, сюда гнали работных людей. Были среди них весьегонские плотники, владимирские пильщики. Объявлено им было, что идут они на одно лето. Обещали им всякие льготы, но вели под конвоем преображенцев. Сзади тянулись телеги с харчами.
С Московского тракта свернули тропою к Неве. Возы пробраться туда не смогли. Поселка еще не было в том месте, куда определили работных людей. По берегам реки, впадавшей в Неву, стоял топкий малорослый лес. Караул преображенцев жил в землянке, работные люди — у костров. Позже пригнали клейменных по булавинскому бунту, затем переселили сюда бобыльские дворы с земель Меншикова. Сначала на бобылей действовали уговором, а когда не помогло это, то начали силой сселять их дворы. По сей день в заводском архиве лежит донесение об этом. Написано оно в первые годы Петербурга и еще отдает языком семнадцатого века.
«…А посланный государев комиссар увещевал бобылей с великим терпением к ним. Одни, мол, вы, без бабы, без детей, не сеете, не жнете. А идите вы послужить государю на другие земли. А бобыли ховались в ямах да в оврагах, иные в лесах. И было тут великое стенание да поносные слова противу государя. А за поносные слова, равно как и за то, что два бобыля пожгли свои дворы, они были повешены. По умиротворению же, все другие бобыли были пригнаны в указанное им место, где их погодя и оженили».
От бобыльих дворов и пошел поселок Устьево. В первые два года поднимали плотину, пилили лес и корчевали пни без конца. Булавинцы бежали. Немногим из них удалось пробраться через Ладогу, через пущи в архангельские раскольничьи скиты. Другие пошли напролом через леса к Москве, чтобы снова податься на Дон. Пробирались они глухими тропами, и пробрались немногие. Остальных преображенцы утопили в болотах да потравили собаки.
Еще долго в Устьеве пилили лес. Лет через десять вытянули первую проволоку, выковали первую медь. Весной, после зимы, обильной снегом, не в пример другим зимам, когда на Московском тракте увязали даже фельдъегерские тройки, плотину прорвало. Вода снесла бараки, бобыльи дворы, затопила, подмыла стены якорного, медного амбара, закрутила в зажорах трупы работных людей. Такого года не запомнили. Уцелевшие были взяты в столицу. Долго после этого пустовало Устьево. Потом пригнали бунтовавший люд аракчеевских поселений. На работу ходили в мундирах под барабан. В четыре утра поселенцев запирали в заводе, в шесть вечера — в казармах. В середине века тысяча людей впервые подписала претензию. И претензия эта хранится в заводском архиве — большой пожелтевший лист. На вид он и жалок и трогателен, но тот, кто мысленно проследит за тем, что совершилось потом в этом самом поселке, пошедшем от переселенных бобыльих дворов, тот увидит на листе-претензии и другое напоминание о справедливости, след растущего сознания устьевца. В былые времена такие письменные претензии звали тарелками. Горчайший опыт подсказал людям наивный прием. Подписи идут не в ряд, не одна под другой, а по кругу, чтобы не открыть было зачинщика. Артелью жалуются, артелью и отвечают. А подписей было мало (грамоты почти не знали), все больше косо поставленные кресты шли по кругу.
К этому времени поселок разросся. Завод стоял на каналах. Один, широкий, как озеро, выходил наружу за ажурные решетки и терялся вдали. Мимо завода вели железную дорогу на Москву. Итальянский зодчий построил красивый собор на площади. Возле собора и прогнали сквозь строй две сотни человек — по одному из пяти. Это было наказание за претензию.
Лет через двадцать после первой претензии, поданной начальству от тысячи людей, прочли в поселке первую запрещенную книжку «Хитрая механика. Правдивый рассказ, откуда и куда идут мужицкие денежки». Читали ее, отправлялись тайком в пустоши на другой стороне широкого, как озеро, канала. И как читали! Бывало, вскочит кто-нибудь, да и поднимает руки к небу: «Ребята, да это ж, да это ж…» И слов не хватает у него, чтобы передать волнение, которое разбудила в его душе нехитрая правда тоненькой книжечки.
К концу века в этом доме на отлете, что стоит на проселке, ведущем к Московскому тракту, там, куда два века тому назад привели работных людей, незаметно поселился приезжий из столицы. Звали его Евгений Петров. Он поступил в завод на работу. Тогда и появился в поселке первый кружок социал-демократов. О том, что работает такой кружок, завод известила первая прокламация, наклеенная на заборе. По одному подбирал людей руководитель кружка. Приходилось бороться за кружок и не с одной полицией, это было сравнительно просто, — но и с теми, кто превосходил Евгения Петрова начитанностью, умением излагать свои мысли. И последнее было очень трудно Евгению Петрову.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: