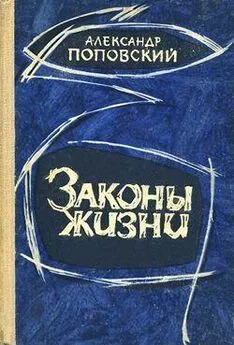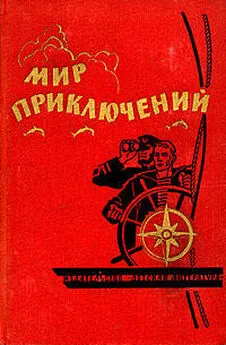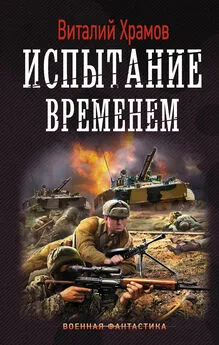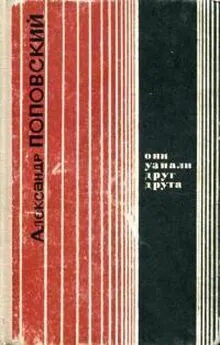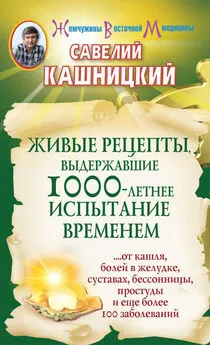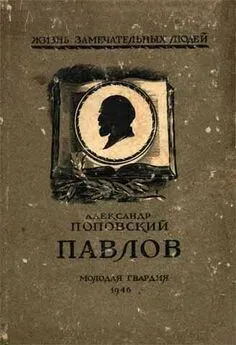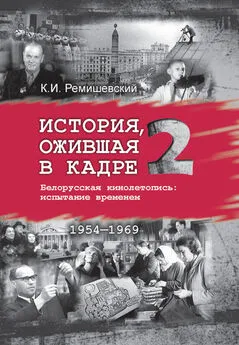Александр Поповский - Испытание временем
- Название:Испытание временем
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1969
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Поповский - Испытание временем краткое содержание
Действие романа «Мечтатель» происходит в далекие, дореволюционные годы. В нем повествуется о жизни еврейского мальчика Шимшона. Отец едва способен прокормить семью. Шимшон проходит горькую школу жизни. Поначалу он заражен сословными и религиозными предрассудками, уверен, что богатство и бедность, радости и горе ниспосланы богом. Однако наступает день, когда измученный юноша бросает горькие упреки богу и богатым сородичам.
Действие второй части книги происходит в годы гражданской войны. Писатель откровенно рассказывает о пережитых им ошибках, о нелегком пути, пройденном в поисках правды.
А. Поповский многие годы работает в жанре научно-художественной литературы. Им написаны романы и повести о людях науки. В третьей части книги он рассказывает о том, как создавались эти произведения, вспоминает свои встречи с выдающимися советскими учеными.
Испытание временем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На этот раз хирург вместо ножа взял в руку иглу, захватил в складку кожу будущего лоскута и стал ее от уха до ключицы прошивать. Следующей процедурой он провел ножом вдоль кожной складки, выше швов. Трубка расправилась, протянулась лентой. Чтобы оградить внутреннюю, незащищенную сторону от внешних вредностей, хирург сшил ее боковые края и образовал таким образом трубчатый тяж. С «матерью-почвой» его связывали оба конца: один возле уха, а другой у ключицы. Это был стебель, питаемый соками, но, в отличие от растительного, он извлекал их с двух сторон.
На двенадцатые сутки хирург срезал с губы старика кусок слизистой оболочки и подшил ее к нижней оконечности стебля. Это была подкладка для будущего века.
В трубчатом тяже нарастали кровеносные сосуды, он развивался и крепнул. Хирург удалил больное веко и на свежую рану уложил нижний конец тяжа. Три недели спустя новое веко прижилось, и излишний кусок стебля отрезали. Новый метод пластической операции стал общепринятым.
Напрасно искал я в чудесных актах милосердия хирурга отголосок тех слабостей и душевных изъянов, приписанных ему со стороны. С тем большим удовольствием продолжал я изыскания его последующих научных откровений.
Удача со стеблем пробудила в ученом свойственную его натуре страсть. Снова, как в пору ранней молодости, когда снедали его охота, рыбная ловля, юношеская забава за карточным столом, он почувствовал себя во власти влечения, крепко втянутым в большую игру.
Еще будучи студентом четвертого курса, Владимир Петрович заинтересовался теорией помутнения роговой оболочки и образования бельма. Глаз в основном невредим, а человек обречен на беспросветное существование. Нетронутой лежит сетчатая оболочка, способная все отображать — воспроизводить картину за картиной, стирать одну за другой и мгновенно возобновлять их. Над этой пленкой невредимым сохранилось стекловидное тело, схожее со студнем. Над ним, нисколько не помутнев, покоится хрусталик — лупа, обращенная в мир. Цела и нерушима радужная оболочка — непроницаемая тканевая завеса, открывающая свету узкий проход через зрачок. Одна лишь роговица, вставленная в склеру — белок, — как часовое стекло в ободок, затянута густой пеленой. Только пересадив больному здоровую роговую оболочку, можно было бы вернуть ему зрение, но где ее взять?
Напрасно просил он врачей, устно и письменно, присылать ему удаленные во время операций глаза с прозрачной роговицей: «Вам они не нужны, вы бросите их в банку с формалином, а я ими людей воскрешу, верну им свободу и солнце». Вопреки советам авторитетов, он благополучно приживлял детям роговые оболочки стариков, девушкам — взятые у престарелых людей.
Была еще одна надежда, увы, весьма шаткая, — использовать роговицы трупов. Многочисленные опыты ни к чему не приводили, зрение возвращалось ненадолго.
Только ученый, способный в привычных канонах повседневного труда разглядеть сокрытое новшество, мог бы найти выход из тупика. Им счастливо оказался Филатов.
Рассматривая как-то научную литературу, ученый прочел: «Окулист-экспериментатор Мажито вернул зрение слепому, пересадив ему роговицу мертворожденного ребенка. Удачный опыт больше не повторился». В другом журнале и значительно позже Филатову встретилась заметка о том же окулисте. В ней сообщалось, что один из больных в день, назначенный на операцию, не явился и пересадку удачно провели через несколько дней. Роговица тем временем оставалась в леднике, охлажденной до пяти градусов выше нуля. Сопоставив первую заметку со второй, ученый призадумался. Не сохранял ли Мажито и роговицу мертворожденного ребенка на холоде? Не потому ли следующие операции окулиста не дали желанного результата, что материал для пересадки не был предварительно охлажден?
Первый же опыт подтвердил, что трупная роговая оболочка, предварительно охлажденная, приживается и остается прозрачной. Холод не только приостановил гибель роговицы, но и повысил ее жизнестойкость. У врачей отныне было достаточно материала, чтобы безотказно возвращать зрение слепым.
Давно было подмечено, что после пересадки роговицы бельмо за ее пределами становится прозрачным. Особенно быстро наступает прояснение, если роговая оболочка была взята у трупа. И в этом случае сказалась способность ученого оторваться от привычных представлений и в повседневном разглядеть сокрытое новшество. Нельзя ли использовать удивительное свойство привитой роговицы, чтобы просветлять ею бельмо? Он срежет верхние слои помутневшей роговички и приживит на этом месте кусочек свежего материала.
Опыт удался — остальная часть бельма стала прозрачной.
В остуженной роговице, решил ученый, возникают, вероятно, некие благотворные вещества. Судя по тому, как ничтожно мало их и значительны результаты, надо за ними признать высокую активность. Если это так, всякая охлажденная ткань должна располагать такими же целебными свойствами и, подшитая к больному месту, становиться лечебной.
Снова удача, на этот раз удивительная: самые разнообразные болезни, будь то инфекционные, желудочно-кишечного тракта, астма и даже болезни женской половой сферы, — благотворно протекали под действием трупной кожи, подшитой вблизи пораженного органа. Позже выяснилось, что результаты будут те же, куда бы ткань ни привили. Можно было также из нее сделать водный раствор или, иссушив в порошок, принимать внутрь.
Так называемые «биогенные стимуляторы» обнаружились также у растений, стоящих на грани смерти. Творческая мысль ученого праздновала истинную победу. Со счастливым сознанием, что труд мой не был напрасен, я мог наконец оставить Одессу и вернуться в Москву.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Близился день, когда в моем творчестве наступит коренной перелом, с жанром научно-художественной биографии придется расстаться. Слишком трудно писать о живых персонажах, творить характеры, которым чужды пороки и ошибки, растрачивать искусство на образ, канонизированный легковесной рукой газетного репортера. В романах персонажи покорны судьбе, не взывают к объективности и не почитают за клевету описание того, что о них давно известно.
А как трудно угодить такой книгой издателю! На ней должен быть штамп главного персонажа — его уверение, что научный материал изложен правильно. Литературный редактор сочтет своим долгом снять с себя ответственность за содержание страниц, посвященных знанию, запросит мнение специалиста либо меланхолично заметит, что такого рода книги целесообразней издавать в медицинском издательстве.
Научная консультация ничего хорошего не сулила. Длинный перечень упущений и погрешностей завершался обычно брюзгливым замечанием, что не следует науку доверять несведущим лицам. Вслед за тем книга выходила в свет с предисловием академика. И тот и другой ученый судили, как им казалось, беспристрастно, но каждый со своих позиций. Не с научных, конечно, а иных. Автор оказывался между чувствительными соперниками, и судьба книги зависела от того, на чьей стороне окажется «бессмертный».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: