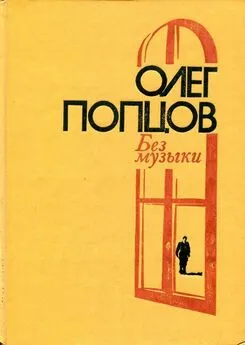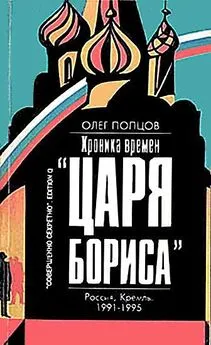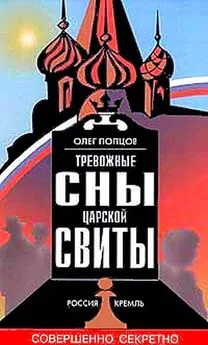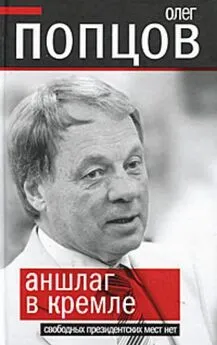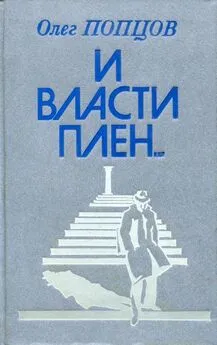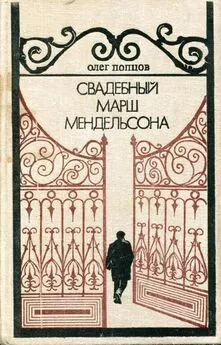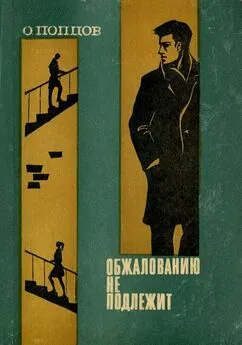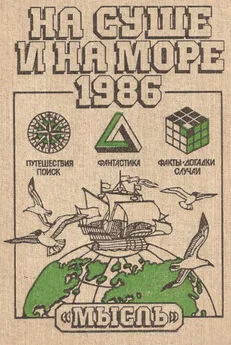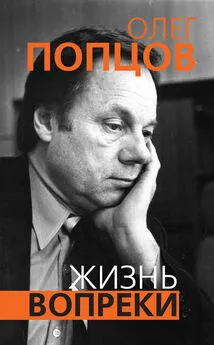Олег Попцов - Без музыки
- Название:Без музыки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский рабочий
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Попцов - Без музыки краткое содержание
Без музыки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Боязнь быть понятым прямо-таки преследовала нас — слова, поступки его или мои переставали быть просто словами и поступками, в них непременно выискивался иной смысл, конечно же скрытый, закамуфлированный, который положено распознать и прочесть. И я уже иначе вел себя при встречах, иначе смотрел ему в лицо, иначе оценивал движения, жесты. Даже жалобы на нездоровье воспринимал как стыдливый намек на навязчивость, не улавливал в них желания услышать сочувствие сверстника и, судя по всему, тоже не очень здорового человека.
Всматривался, долбил, прощупывал его лицо взглядом, признавал в нем не столько черты знакомые, но и скрытность тоже. Мрачновато-задумчивое, обрамленное пышноволосой сединой благородно-состарившееся лицо, когда атрибуты моды — породистые баки, чуть обвисающие усы и волосы, длинно стриженные навалом на лоб, — вдруг превратили лицо красивого и сильного, физически сильного человека в красивое лицо человека, уже прожившего долгую жизнь. Необъяснимое движение по прямой, без промежуточных станций, без замедления хода. Жил, как жил, не старея, не тяжелея. Красивый, молодой и сильный, со своим сипловатым баритоном. Казалось, он будет таким вечно. И, поди ж ты, сразу стал старым. По-прежнему красивым, но старым человеком. Удивительное лицо, хмурое, с глубоко скрытой азиатчинкой, что с возрастом стало заметнее: отекшие веки чуть сузили глаза, и еще усы, обвисшие и седые, добавили сходства.
На этом лице, похожем на изваяние, иногда вдруг дергалась щека, и тогда глаза, готовые принять радость, гасли мгновенно, оставался видимым лишь отблеск невозникшей улыбки: мол, тебе нравится рассматривать, бог с тобой. Этой усмешкой он выказывал и сочувствие собеседнику, и свое превосходство над ним. Он никогда не начинал разговора первым, смотрел лукаво и настороженно, в зависимости от настроения, и ждал, словно желая убедиться, насколько полезно собеседник распорядится инициативой в разговоре, которую он так легко уступил ему.
Но мы-то с ним хотели войти в нашу дружбу на равных, без превосходства. Не обременяя дружбу, а лишь позволяя ей совершить единственное и самое главное: зафиксировать наше духовное единение, и отныне жить в расчете, что оно существует.
Он многое мог, он был влиятельным человеком. Даже в его затворничестве угадывалась молчаливая сила. Ее сторонились, брали в расчет.
Процессия двинулась. «Последние триста метров», — вздохнул кто-то за моей спиной. Я оглянулся. Это был жилистый, непривычно подвижный для своего возраста человек. Сутулый, лысоватый, он заваливал голову чуть набок, и было непонятно — привычка это или следствие контузии, нездоровья. В такой момент он делался похожим на петуха; один глаз был прищурен, отчего на лице даже в столь скорбный момент сохранялась гримаса скрытого ехидства.
Видимо, он ждал моей реакции. Но я лишь оглянулся на реплику, и он поймал этот момент, спешно забормотал, адресуясь, только ко мне:
— Знаю, знаю, знаю. Вы профессор Лапшин, заведуете кафедрой в пединституте. Нас знакомили. Что за жизнь, что за жизнь… Встречаемся на похоронах, знакомимся на поминках.
Он еще говорил что-то в том же роде, настаивая на нашем знакомстве, вспоминая очень личные моменты жизни покойного, которых я не знал. Он говорил о них таким доверительным шепотом, с подмаргиванием, причмокиванием, что я устыдился своей кромешной неосведомленности, которую при желании можно истолковать как заведомую отстраненность, равнодушие, черствость.
Возможно, я так и не стал другом покойного, но человеком, достаточно ему близким, я все-таки был. И если не все, то многое из услышанного сейчас мне надлежало знать.
— Человек — всегда сумма!
Последовала пауза. Мой внезапный собеседник смотрел выжидательно. Что уж там выражал мой ответный взгляд, я не знаю, но в нем, несомненно, проявилось недоверие, которое я испытывал к этому странному человеку.
Мой собеседник выждал достаточно и снова заговорил:
— Он не всегда был таким…
Повторная пауза представлялась мне и неуместной и вызывающей. Следовало отдать должное настойчивости, с которой он желал завязать разговор.
— Каким таким? — спросил я.
Мой стихийный знакомый, назовем его так для простоты, отступил назад, стал сжимать и разжимать пальцы, похоже, готовя себя к действию, сопряженному с физическим усилием. Я слышал, как похрустывают суставы, и, не желая того, стал смотреть на его руки, заметил, как морщится кожа на пальцах и как они искривлены временем и нездоровьем.
— Хороним сегодняшний день, и отсчет в мыслях своих — по сегодняшнему дню, — сказал он монотонно, с какой-то молитвенной певучестью. — И никому не придет в голову, что было время, когда фамилия Полонов вызывала лишь недоумение. «Это какой же Полонов? Ах, Юрий?! Нет, не помню! Не знаю! Не слыхал!..» Будто бы и не Полонова назвали… Н-да…
Раскатистое «н-да» было произнесено с ударением и видимым расчетом взбодрить собеседника, а равно и подготовить себя к новой мысли.
— Ставим черту под всей жизнью. И тем Полоновым и этим. Н-да. — Что-то вспомнил, пожевал губами и опять заговорил: — А начинал он, между прочим, в газете.
Мой собеседник не спросил меня, знаю ли я об этом. Возможно, его обижало мое молчание. Впрочем, если бы даже спросил, мне нечего было ответить. Сказать «нет» — лишь подтвердить неправомерность моего появления здесь. Проще смолчать, и я смолчал.
Когда он начинал говорить, то поднимал голову и первые фразы произносил очень громко, затем опускал голову, ковырял носком ботинка землю и говорил куда-то себе под ноги. Речь звучала приглушенно, приходилось вслушиваться.
— А было это, было это давно…
Его предупреждающие фразы, наполненные каким-то неясным смыслом, имели своей задачей расшевелить меня. Я понял, что должен уступить ему. Вложил в свой вопрос как можно больше заинтересованности:
— Вы что же, вместе работали?
Он энергично закивал, как если бы заранее, много наперед благодарил меня:
— Да-да, мы вместе работали. И вместе учились. И начинали вместе. Вот видите, вы близкий друг и не знаете.
Сказать ему здесь, на кладбище, что он ошибся, что я и не друг вовсе, мне представилось бессмысленным, жестоким даже. Он мог бы счесть это за отречение, за желание обозначить дистанцию между мной и покойным. Мне, скорее, желалось считать себя другом Полонова, и поэтому я сказал:
— Нет, не знаю.
— Ничего, ничего. — Он заторопился, — Я расскажу. Расскажу.
— Мы тогда уже года по три в областной газете оттрубили. Лихие были времена… Голодные, но лихие. Юра вечно с кем-то конфликтовал. В газете тоже… Не заладились у него отношения с замом редактора. Такой тот был службист — лучше не вспоминать. Всю редакцию в страхе держал. А тут появляется некий Ю. Полонов, которому на зама в полной мере начхать. Кому такой понравится? Зам был человеком осторожным. По любому поводу произносил свое излюбленное: «А надо ли? Поймут ли нас?» И чем горячее ему доказывали, что конечно же «поймут» и конечно же «надо», тем несговорчивее он становился. «Не знаю, не знаю, — твердил зам, — не уверен». Мы, вновь пришедшие, были переполнены идеями, и вдруг такая преграда: «Надо ли?» Старожилы терпели, мы сдержанно роптали, а Ю. Полонов полез на рожон. После очередного обсуждения, закончившегося привычным «а надо ли?», Юра не выдержал и назвал зама «лицом среднего рода». Этого ему показалось мало, он уточнил: «Вы промежуточный — вот кто!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: