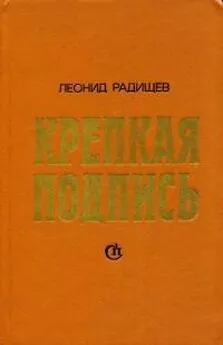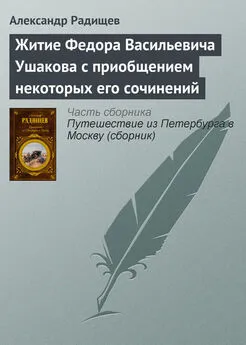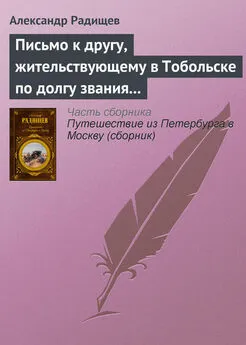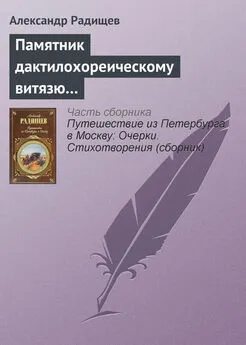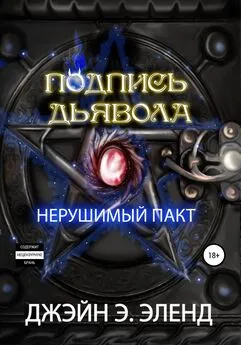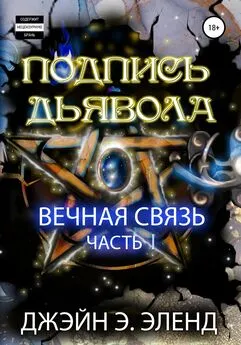Леонид Радищев - Крепкая подпись
- Название:Крепкая подпись
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1986
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Радищев - Крепкая подпись краткое содержание
В книгу вошли также рассказы писателя о людях революционной эпохи, о замечательных деятелях культуры и литературы (М. Горький, Л. Красин, А. Толстой, К. Чуковский и др.).
Крепкая подпись - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Правда, имя это мне было отчасти знакомо. В Ленинграде в то время вышли на старт сразу шесть или семь способных очеркистов и фельетонистов: Тубельский и Рыже́й (Братья Тур), Михаил Лоскутов, Бор. Бродянский, Ефим Южный, Сергей Безбородов и тот, о ком я сейчас пишу. Леонид Радищев и здесь выделялся ясным, уверенным слогом без излишнего словесного щегольства и показной эрудиции, которыми нередко грешат фельетонисты. Видно было, что он хорошо знает то, о чем пишет, знает не понаслышке, не из справочников и энциклопедий, а непосредственно из окружающего его мира. Этот мир, как известно, представлял собой не легко обозримую модель, не стоял спокойно на месте, — он бурно двигался и менялся, так что изучать и описывать его приходилось на ходу; помогало лишь то, что мы двигались вместе с ним.
Вскоре я познакомился с автором рассказа и фельетонов. Его наружность, походка, манера держаться и говорить были во многом под стать его литературной манере. Атлетического сложения, неторопливый, насмешливый, но без издевки, без колкостей, наоборот, снисходительный к моим литературным пристрастиям, он мне понравился, и мы сразу стали звать один другого — «тезка». Самое главное для меня в нашем приятельстве (дружбой назвать это тогда было бы преувеличением) оказалось то, что мы понимали друг друга с полуслова, как бы ни расходились во вкусах и склонностях. Встречались мы скорее случайно и преимущественно в общественных местах — в редакциях, в Доме печати (Дома писателя, а тем более Домов творчества писателей еще не было); чаще всего мы встречались в столовой Ленкублита (Невский, 106), организованного в 1930 году для улучшения быта литераторов в столь неустроенное в бытовом отношении время. Если не ошибаюсь, у тезки я побывал лишь однажды, в самом начале 30-х годов. Он жил на Троицкой улице (теперь улица Рубинштейна), в новопостроенном доме, почему-то прозванном «слезой социализма». В квартирах не было кухонь — все питались в общей столовой; это в принципе, а в жизни получилось, что большинство стало готовить себе пищу дома, тем или иным способом выходя из трудного положения, отчего у хозяйки и впрямь могли навернуться слезы. Впрочем, закоренелому холостяку и антибытовику Радищеву общая столовка внизу, в первом этаже, была по нраву; хорошо помню его почти пустую, голую комнату: койка, конторский стол, такой же стул и гантели в углу, на полу.
В февральской книге журнала «Звезда» в 1930 году печаталась моя первая сравнительно солидная по объему повесть, и я запомнил, как Радищев, увидев в моих руках корректуру, взял ее у меня, сел в угол пустующей в тот час столовой и не сошел с места, пока не прочел эти два печатных листа лирической, насквозь метафоричной прозы, прямо противоположной тому, что и как писал он сам. Я и сейчас люблю эту юношескую вещь, хотя понимаю, что смесь французского с нижегородским — Жана Жироду с Борисом Пильняком — могла не только насмешить, но и вызвать раздражение у читателя столь трезвого вкуса, каким был Радищев. Не знаю, какие ощущения он испытывал, когда читал повесть, — но мне он сказал, отдавая гранки:
— Спокойствуя белизной? — и ободряюще кивнул: — Ничего, ничего!
Первые два слова были цитатой из только что прочитанного им «Полнеба» и произнесены с явным юмором, а дальше — обычное для тезки и нынче благожелательное ободрение: «Ничего, ничего!» — при этом легкий кивок и полуулыбка. Почти через сорок лет я заслужил от него такой же ободряющий, душевно необходимый для автора кивок по поводу моего очерка-воспоминания о работе на Волховстрое, напечатанного в той же «Звезде» и, как мне казалось, никем не замеченного, кроме редакции и Радищева! Правда, тезка еще добавил, что очерк порой потруднее написать, чем рассказ, — а уж в этом-то он, очеркист, журналист и прозаик, знал толк.
До середины 30-х годов Л. Радищев почти не печатался в толстых журналах, основным полем действия для него были тонкие журналы и газета «Литературный Ленинград», сотрудником и одним из фактических создателей которой он являлся. Фельетоны, статьи, рецензии, очерки, обозрения, отчеты о шумных дискуссиях — все журнальные и газетные жанры были отлично освоены Л. Радищевым, подписывавшимся то своим полным именем, то псевдонимом «Лерус», то инициалами «Л. Р.», прежде чем он окончательно перешел в стан прозаиков.
Но вот встретились мы с Радищевым незадолго до войны в городе Пушкине в Доме творчества — небольшом деревянном особняке, всего за год до этого принадлежавшем Алексею Николаевичу Толстому. В первые месяцы войны здесь разместилась редакция писательской дивизионной газеты.
Зимой 1939 года, когда мы с Радищевым жили в этом мирном доме, окруженном сугробами белого-белого снега, какого никогда не найдешь в Ленинграде, я впервые увидел, с каким упорством Радищев кует свою прозу. Куда подевалась былая динамичность профессионального газетчика! Запершись в крохотной комнатушке, выходившей на площадку второго этажа, тезка скрипел пером с утра до вечера (портативных машинок, на которых мы стучим нынче, тогда у нас не было) и спускался вниз только к завтраку, обеду и ужину. Иногда, правда, мы находили время для бесед, для прогулок, для литературных шарад, в которых он неизменно побеждал всех участников, но большая часть дня была трудовой.
Тезка никогда не читал вслух и не давал другим читать свою рукопись, даже не говорил, что именно он пишет, но вскоре рассказы его начали появляться в «Звезде», «Ленинграде», «Литературном современнике». Это была добротная проза, проза опять же без выкрутасов, серьезная, умная, но все же, на мой придирчивый взгляд, недостаточно окрашенная индивидуальностью автора. Радищев-человек был для меня пока интереснее Радищева-писателя. Я видел, что он еще в пути, — ищет, нащупывает свои темы, свой почерк. Нашел ли бы он это все, если бы не война, не события в его личной судьбе, надолго оторвавшие Радищева от литературы, трудно сказать. Так или иначе, через полтора десятка лет Радищеву предстояло снова искать путь к себе, путь к настоящей прозе, были ли это рассказы, повести или воспоминания о журналистских встречах с политическими и государственными деятелями — Красиным, Кировым, Тухачевским, Луначарским; писателями — Горьким, Толстым, Чуковским, Сергеевым-Ценским; художниками — Радловым, Антоновским, Малаховским; художником и писателем Канторовичем.
Точно так же, как судьбе было угодно, чтобы Леонид Радищев трижды заново начинал литературную деятельность, сперва публициста, затем прозаика и, наконец, после длительного перерыва, опять прозаика, так же жизнь наделила его столь различным человеческим материалом… Люди, с которыми он встречался в разные периоды жизни, так несходны, что одно это может заставить писать, писать и писать! Думается, что Л. Радищев не исчерпал двадцатой доли своих впечатлений и наблюдений. Но и то, что написано и опубликовано, дает материал для раздумий и для оценки; к тому же Радищев в последние десять лет успешно писал и для детей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: