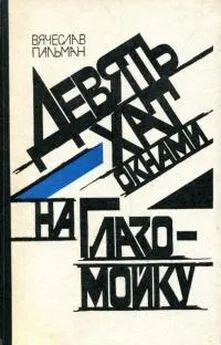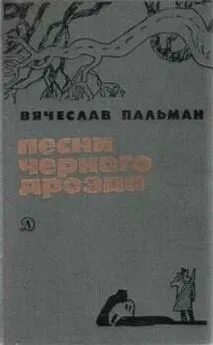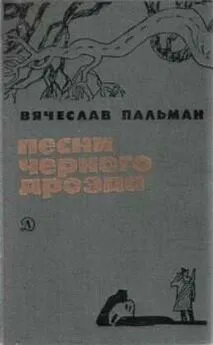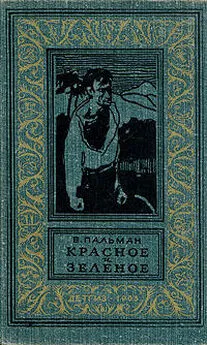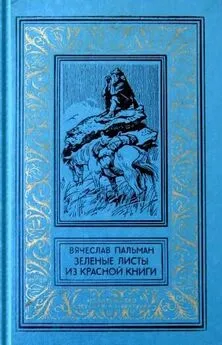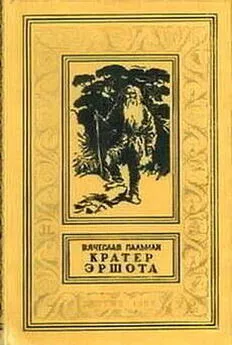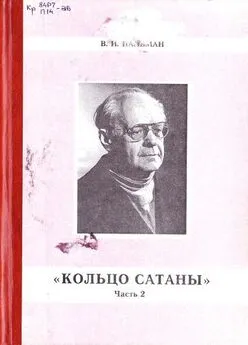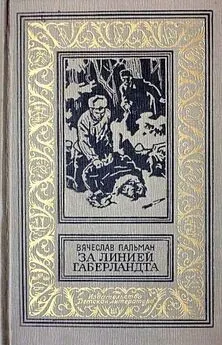Вячеслав Пальман - Девять хат окнами на Глазомойку
- Название:Девять хат окнами на Глазомойку
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Пальман - Девять хат окнами на Глазомойку краткое содержание
Повесть «Приказ о переводе» воссоздает образы людей, для одного из которых пашня — средство для сиюминутных достижений, а для другого — вечная ценность. Конфликт этих людей положен в основу повести.
Девять хат окнами на Глазомойку - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Я останусь, Аркадий Сергеевич, — попросил Савин. — Кое-какие дела в Лужках. Строим большой навес, а под руками ничегошеньки! Погода диктует.
— Да, пожалуйста. Я бы с удовольствием еще посидел-поговорил, но в семь у меня разговор с обкомом, опаздывать не позволено.
Шофер уже сидел за баранкой, такой довольный, с пылающими щеками. Они тронулись, проехали насыпь. Глебов искоса посматривал на улыбчивое лицо шофера. Резковато спросил:
— Выпил, что ли?
— Как можно, Аркадий Сергеевич!
— А чего сияешь будто солнышко красное?
— Да так…
— Угостила тебя красна девица?
— Ну!.. По первому разряду. Та еще хозяйка, доложу вам.
— Это и я приметил. Отец не нахвалится. Толкует, что никакой работы не боится.
— Воспитание! Она ведь тутошняя, в нашей школе и обучалась.
7
Не первый раз разбираясь в причинах, породивших бесчисленное множество недостатков и даже упадок сельских дел в своем да и в других районах Нечерноземья, Глебов все чаще возвращался к мысли, которая поначалу казалась ему просто крамольной, но тем не менее все более близкой к истине. И вот разговор с агрономом Савиным, один из немногих откровенных разговоров, подтвердивший эту мысль.
В самом деле…
Когда и как это случилось, что главная ответственность за создание хлеба и молока оказалась не на тех людях, которые производят продукты и знают лучше всех, как это делается, а на работниках районных и областных учреждений, на специалистах, осевших в этих учреждениях? Из каких таких соображений сместился самой жизнью установленный порядок, породив бесконечную цепочку проблем? Из каких таких далей появилась курьезная практика командовать земледельцами, контролировать их, постоянно подталкивать, побуждать к тому самому, что испокон веков составляет для них смысл и радость жизни — к труду на земле? Чем занят Глебов и сотни работников райцентра в десятке учреждении, как не подталкиванием разными способами — от поощрения до наказания — нескольких тысяч земледельцев? Всем очевидно, что они и без напоминаний заинтересованы своим делом, поскольку работа, и только работа, позволяет им жить лучше, приобретать уважение от других людей, для которых продукты поля и ферм нужны позарез, — для городов с их индустрией. Ведь это неразрывная цепочка: город и село. И там и тут делают товары, продукты, без чего нет общественных благ. Город и деревня друг без друга не могут. Никто из них не претендует на командование. Они — партнеры. И этим все сказано. Партнеры-сотоварищи, друзья.
А что же такое район? Посредник? Если так, то и чуровским руководителям надо прежде всего заняться облегчением забот земледельцев, обеспечить им все нужное для жизни и труда, взять на себя снабжение и торговлю, освободив крестьянина от несвойственных рыночных дел. Только и всего. Покончить, пусть не сразу, с таким безобразным явлением, как доставание, блат и беззаконие, с чем Глебов уже встречался.
Пусть земледельцы занимаются своим делом, выращивают, получают продукты в поле и на фермах. И не думают о гвоздях и машинах, дорогах и жилье. Это посредники обязаны думать о постройке в деревнях новых домов, дорогах от села к селу. Их дело заботиться о перевозке минеральных удобрений и горючего, искать и находить лучшие семена и машины, словом, делать все сложное, что называют сегодня развитием, научно-технической революцией. Чем активней такая помощь, тем лучше будет поле, где создают продукты, больше радости у земледельца, создателя всем нужных благ. Все остальное — зыбкое, лишнее. Не надо ежечасно «озадачивать» хозяйство и бригады, постоянно указывать, следить, уговаривать, а то и наказывать за невыполненные требования. И уж конечно нигде и никогда не вмешиваться в технологию. У земледельцев — опыт, у агрономов — знание. Свобода действий укрепит в них уверенность, принесет покой. И возникнет то самое чувство радости, которое лежит в основе всякого творчества.
Разве не так получилось у Савина, создавшего самые хорошие условия для звена Мити Зайцева? И не по этой ли причине Митя остался в Лужках, а не последовал за сверстниками, убежавшими в город?..
Едва додумав эти мысли до конца, Глебов как бы со стороны посмотрел на все, о чем размышлял. И тут он увидел всю отлаженную десятилетиями систему усложненных взаимоотношений. Какая прочность и неприкасаемость! Учреждения, сотни служащих; указания, телефонные звонки, кипы бумаг с внушительными штампами и печатями, кабинеты с двойными дверями, собрания и заседания… Это в районе. А в области? Ведь все повторяется, усложняясь настолько, что в кипучей деятельности иной раз теряется и сама цель, остается деятельность сама по себе. Посягнуть?.. Да кто он такой, чтобы… Глебов сжимал зубы до звона в ушах. Уж не ищет ли он выхода из трудностей там, где выхода нет?.. Не маниловщиной ли попахивает от подобных мыслей? Не один же Глебов видит сегодняшнее положение в деревнях. В Нечерноземье таких районов, как Чуровский, — сотни, у каждого свои, но схожие проблемы, нередко куда более тяжкие, чем у них в Чуровском. Может быть, это временное явление, так сказать, трудности подъема на новую ступень? Отладятся взаимосвязи, с повинной головой потянутся в деревню люди, и все пойдет ладком и мирком. Стоит ли торопить события, тратить нервы у себя и у других? Просто работать и ждать.
И он продолжал работать, как сотни других секретарей в разных районах Нечерноземья и за ее пределами. И ждать.
Но все равно что-то новое возникло и окрепло в душе Аркадия Сергеевича. Он уже не был «как все». Обострилось, стало заметнее полное неприятие равнодушия, бездумности. Встречаясь с людьми, чей взгляд был скучен, а слова «нам все равно» выскакивали прежде других слов, Глебов становился суровым и непреклонным. Не убеждал. Это напрасный труд. Или приказывал, или наказывал, изгоняя бестолковость своею властью.
Еще до дождей, когда погода словно бы угадывала желания агрономов и колхозников, обещая хороший урожай, когда поля радовали свежей зеленью, а люди — добрым настроением, Глебов дня не пропускал, чтобы не отправиться в поездку по району! Начальник районного сельхозуправления Куровской, агроном и старожил, которого он чаще других приглашал с собой, то и дело подавался к нему с заднего сиденья газика и позволял указывать на одно, другое поле, оценивая их самыми превосходительными словами. Хорошо росла и дружно зацветала рожь. Высокая и нежная, она отсвечивала сине-зеленым и нехотя клонилась под ветерком из стороны в сторону. Тучи пыльцы проносились над полем. Отлично гляделся лен, он зацветал, как небушко голубое, тянулся к солнцу, обещая нежную и длинную соломку. Темной зеленью выделялись квадраты картофеля, под его сочной ботвой угадывались молодые клубни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: