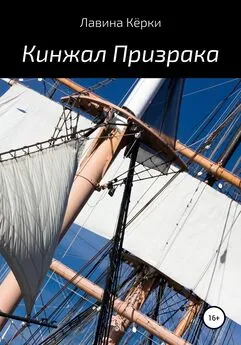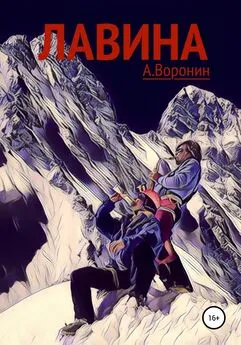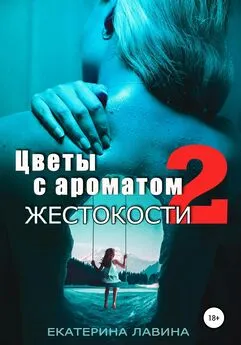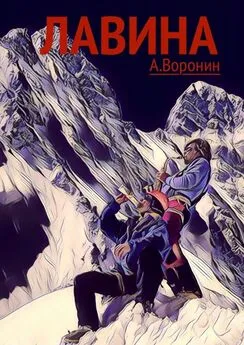Михаил Миляков - Лавина
- Название:Лавина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Миляков - Лавина краткое содержание
Лавина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Паша до того разъярился, что не давал слова вставить, где уж там обоснованно и детально возразить.
— Поколесишь по градам и весям, посмотришь, послушаешь, потолкаешься среди работяг всякого рода и приходишь к тому же парадоксальному выводу, что и от любой бабки деревенской, согнутой годами и напастями слышал. Соль одна, и она в том, что ничего нет важнее доверия, выше любви. А что это, простите, если не та же доброта! Ты все же напрягись, Саша Воронов, напрягись и вникни. Авось чего-нибудь и углядишь.
Воронов не то чтобы углядел или вычислил, но хотя бы допустил возможность достаточно веских причин, побуждавших Кокарекина к столь пылким откровениям, иначе вряд ли бы выключился из дальнейшего разговора.
— Раз от разу мне становилось легче и проще с нею, — мчал Паша, будто и не было перепалки и всяких премудростей, только вот имя и отчество отчего-то не упомянул. — Я уже начинал смотреть на нее, а то все отворачивался. Становилось приятно, когда специально для меня показывала, как произносить некоторые звуки. Раскрывала мой рот и поправляла язык. Я старался понять, чтобы не огорчить, сделать приятное ей, чтобы улыбнулась, похвалила. Не для себя я тогда учился — для нее. Чтобы рассиялась, как случилось однажды… Может, потому так остро отпечатался в памяти едва ли не каждый час с нею, — вырвалось у него. — А там, понемногу иначе начал воспринимать других детей, взрослых. Отвыкать от злобной своей готовности к войне. Появилось любопытство, желание узнать что-то. Вопросы и расспросы. И наконец, доверие и, как бы сказать спокойным словом, благожелательность. Но не скоро. Были еще срывы и возмущение, когда кидался с кулаками, выкрикивал несуразную брань.
Никакими особыми рассуждениями о том, как следует вести себя, об уважении к старшим и прочее, сколько помнится, она нас не пичкала. По крайней мере, в те четыре года, что учила меня, день за днем исподволь превращая в человека. Боюсь, следует воздать должное ее недоверию к громким словам. Да, в какой-то степени мысль изреченная есть ложь. Да, не воздействует, как желалось бы. Пример — она сама. Невозможные для меня, тогдашнего, категории: доброта, сердечность, прощение — все это было в ней, пронизывало ее, составляло ее сущность и проявлялось постоянно в любой затруднительной ситуации. Находясь рядом, общаясь с нею, ты оказывался в поле воздействия этих сил. Но она никогда не формулировала их, не облекала ни в какую форму, ну разве только, я уже говорил: стишата и куклы.
Она принимала нашу гнусность и, не отвечая на нее, гасила, поглощала, как, не знаю, активированный уголь поглощает всяческую дрянь. Она выводила из сосредоточенности на раздуваемой самим собою обиде, недоверии, злобе. Туман рассеивался, и ты начинал воспринимать события и людей без предвзятости, такими, каковы они есть, я совершенно теперь уверен, благодаря любви, переполнявшей ее. Понимаете, любовь, которая не угасает от издевательств и неприятия, равнодушия и злобного эгоизма, любовь, ничего не требующая для себя…
«…Запущенный педагогически ребенок, силою обстоятельств оказавшийся вне благотворного влияния семьи и вовремя не пришедший ни к каким контактам, — объяснял мне Воронов в одну из наших спорщических встреч. (Признаюсь, мое несогласие и достаточно обоснованные, смею надеяться, возражения открывали возможность узнать Воронова ближе. Я пользовался этим приемом совершенно чистосердечно, без всякой игры, может быть, потому и удавалось вызвать его на некоторую даже откровенность, которой трудно ожидать от столь замкнутого, более того, умышленно ограничивающего себя в общении человека.) — Не беспокойтесь, его преподавательница отлично разглядела и умишко у малого, и хитрость в умении поиздеваться над взрослыми, отказывавшими ему в интеллекте, и сделала соответствующие выводы. На действительно тупоумного время и силы тратить бесполезно».
«Отчего же к схожим выводам не пришли другие?» — осторожно осведомился я.
«Другие?..» — В голосе Воронова прозвучало удивление. Он сказал, что этот же вопрос задал Сергей Невраев, ибо он, Александр Борисович Воронов, так же, как теперь, резюмировал восторги Паши Кокарекина. Увы, Кокарекин вроде бы даже обрадовался вопросу, восприняв, надо полагать, как некое поощрение, и (буря не унималась, ветер, снег по-прежнему, о том, чтобы идти на штурм, нечего было и думать), никем не подгоняемый, не прерываемый, пуще развел свои фанаберии про доброту, сердечность и прочие столь же выдающиеся достоинства Светланы, как ее там дальше (слукавил Воронов, якобы запамятовав отчество).
— Вот, вот, Сережа! Цепочка добрых дел! — размахивал руками и крутил головой Павел Ревмирович. — Чтобы не оборвалась она! Делать добро! Не ради чего-то. Тем паче выгоды. Да-да-да-да-да! Цепочка добрых поступков! Какие-то подарки душевные…
Воронов несколько свысока, менторским тоном:
— Ты русскую историю изучал? Или только по фильмам да спектаклям? Уж добрее, милосерднее, мягче царя Федора Иоанновича и человека на свете не было, и к чему привело? О Смутном времени представление имеешь?
— На том жизнь держится! — не слушал Павел Ревмирович. — Разум, талант, любое категорическое знание, когда само по себе, без доброй основы — с легкостью может быть вывернуто на беду. Любая сила без доброты, без «лелеющей душу гуманности», как говорил Белинский, грозит несчастьем. Если будет продолжаться, как сейчас — ракеты, ракеты… А так называемые светочи науки, нобелевские и прочие… эти слепцы с душонками маленьких дебилов…
(«Пробовал его унять, — рассказывал Воронов, — какое! Поневоле согласишься, что учительница его действительно должна обладать недюжинным терпением. Всякий довод провоцировал сопротивление еще большее плюс прямое нежелание считаться с элементарной логикой, с фактами, даже с приличиями. Тут еще Сергей Невраев и за ним Бардошин».)
— Утверждение, будто наука самоконтролируется и самоуправляется, — вмешался, разумеется, ради того, чтобы поддержать своего дружка, Сергей, — попросту попытка стряхнуть с себя ответственность. Хорошо, математика. Но в биологии? Страшно подумать, к чему может прийти биология. Управляемые генетические процессы. Гомункулус из пробирки — это же завтрашняя реальность.
Воронов вознамерился в пух и прах разнести столь малодушную позицию и начал соответственно:
— Генная инженерия, как и любое научное знание, дает человеку власть над определенными явлениями окружающего мира. — И подумал, что его языкастые оппоненты осмеют любой демагогический довод, и… нашел иной выход. — Ведь и нож, орудие убийства, в руках хирурга становится скальпелем!
Бардошин то ли отоспался уже, то ли почему-либо не мог уснуть, во всяком случае, сообщение Воронова ему понравилось. Как бы даже до некоторой степени соответствовало его собственной установке.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
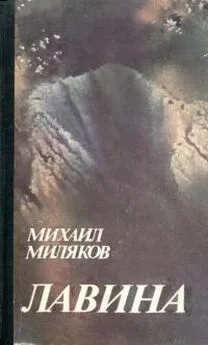

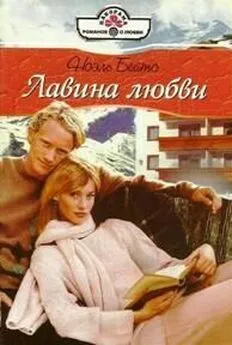
![Нил Стивенсон - Лавина [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082139/nil-stivenson-lavina-litres-s-optimizirovannoj-ob.webp)
![Нил Стивенсон - Лавина [litres]](/books/1082155/nil-stivenson-lavina-litres.webp)