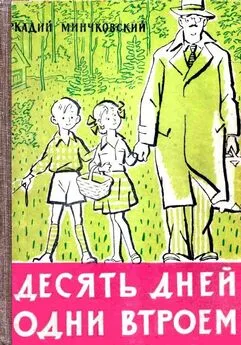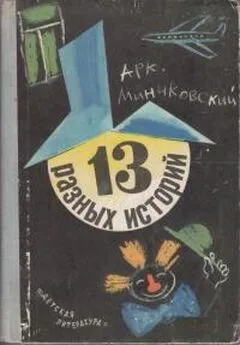Аркадий Минчковский - В наши дни
- Название:В наши дни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1983
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аркадий Минчковский - В наши дни краткое содержание
В наши дни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Я когда в Париже был, Керенский от русских прятался. Боялся за свою шкуру. Потом в Америку бежал, шакал.
Наступила неловкая пауза. Нам показалось, что разговор с защитником самодержца и временщиков был исчерпан. Как раз ко времени. Нас позвали к раннему обеду, и мы распрощались с Гаджиевым.
Думалось, на этом удивительная встреча с человеком с того света закончилась.
Но мы ошиблись.
На следующее утро он, узнав, где мы с Николаем Николаевичем живем, постучался в двери номера и явился, по-видимому, на правах старого знакомого. В руках старика был какой-то внушительный, завернутый в бумагу большой плоский предмет.
— Можно входить? Позволяете? — спросил он.
И вошел, осторожно прикрыв за собой двери. Был одет в тот же пиджак, гладко побрит и вообще, несмотря на фантастический возраст, казался даже подтянутым.
Предмет, который принес незваный гость, оказался альбомом большого формата в потертом переплете. Громадный, будто чемодан, он к тому же, чтобы не раскрываться, был перетянут ремнем. Бывший казачий сотник опустил альбом на стол и, положив на него коричневую руку с золотым кольцом на пальце, сказал:
— Тут вся моя жизнь.
Но жизнь давнего горца почему-то начиналась с наклеенного на первую страницу портрета Ататюрка. Портреты первого президента республики висели по всей Турции. В больших магазинах и маленьких темных лавочках, в фойе кинотеатров и на стенах кофеен, в кондитерских с восточными сластями и в сапожных мастерских. В республике сменилось немало президентов, но изображения всюду были только первого. Его портрет помещался и на плакатах самых различных партий. В Турции шла шумная перевыборная кампания — и фотография Ататюрка соседствовала то с белой изящной лошадкой, то с пятью направляемыми в разные стороны стрелами, то с курчавым барашком, тоже беленьким на красном фоне, — эмблемами партий, борющихся за места в Великом национальном собрании.
Альбом Гаджиева открывался портретом Мустафы Кемаля — вероятно, на тот случай, чтобы ни у кого не оставалось сомнений: теперь Гаджиев — турок. Дальше шли наклеенные на старинные паспарту, покрывшиеся желтизной времени фотографии. На одних картонках в аппарат смотрел жгучими глазами худенький юноша в круглой барашковой шапке. На других — групповых — снимках чинно сидели неулыбчивые женщины в черном и стояли за ними усатые мужчины в рубашках с застегнутыми до подбородка воротами, подпоясанные кавказскими ремешками с серебряным набором. На паспарту одной из карточек тучнела витиевато написанная фамилия фотографа и значилось: «г. Владикавказъ». Еще там была фотография: два молодых человека в папахах, откинув полы плечистых бурок, устрашающе сжимали ручки висящих на поясах кинжалов. Потом на отдельном листе сам Гаджиев.
Тут его уже можно было признать. Он в черной черкеске, с крестами на груди, с застывшим свирепым взором.
Медленно перелистывая ставшие на углах янтарными альбомные страницы, старик пояснял:
— Мать моя и сестра… Старший брат Муса… Это вот я. Первый раз тогда в город приехал. Тут с кунаком снялись… Это уж в Петрограде. На Невском проспекте фотография на крыше была. С южного фронта я тогда приехал.
Но главный козырь следовал дальше.
Перевернув еще пару страниц, старик даже несколько отстранился от стола, давая нам возможность получше рассмотреть то, что было в альбоме, и ожидая, какое это на нас произведет впечатление.
Во всю ширину листа была аккуратно наклеена продолговатая журнальная вырезка. Хорошо сохранившийся оттиск на гладкой бумаге изображал Николая II, снявшегося летним днем в Царском Селе с личной охраной на фоне колоннады Александровского дворца. Между царем и дядькой-матросом нетвердо стоял на ногах наследник, одетый в матросочку и поддерживаемый (это было заметно и на снимке) дядькой. Справа и слева от них, выстроившись в ряд и замерев, смотрели в аппарат охранники в черкесках и кавказских шапках, всем своим видом давая понять, что готовы умереть за государя-императора. Слева от царя находился наш утренний гость.
— Когда снимались, — сказал старик, — его величество сам мне велел: становись сюда, сотник Гаджиев.
— А где же сама фотография, оригинал? — спросил я.
Он горестно вздохнул.
— Продал я. В Париже продал. В двадцать третьем году, когда бедствовал. Русский редактор купил. У меня вот только это и осталось.
Меж тем возникла доля сомнения. Давно было известно, многие из бежавших на Запад эмигрантов старались превзойти один другого, доказывая свою близость к царскому двору. К таким за границей на некоторое время возник интерес. Им становилось легче прожить. Возможно, и сотник Гаджиев лишь выдавал себя за приближенного к царской особе. Но нет, пожалуй, все было правдой. Ведь альбом, принесенный в наш номер, был семейным.
Мы перелистывали страницы. Хроника жизни казачьего офицера неожиданно обрывалась на той печатной фотографии и возобновлялась лишь в период пребывания его в Париже. В двадцатых годах бывший сотник выступал на арене цирка.
— Я ведь джигит еще какой был, — похвастался он. — Красную черкеску надевал. Кинжал в серебре. Публика платки кидала. Я все с ходу зубами поднимал, и шапка не падала. Весь Париж мне в ладоши хлопал. Было…
Имелась в альбоме фотография: Гаджиев стоял рядом с поджарым конем. Конь в казацком седле. За ними полукруглые ряды цирковых кресел. Рядом на странице оказалась наклеенной полинялая крышка от папирос «Казбек». Знакомый силуэт мчащегося во весь опор всадника на фоне гор со снежными вершинами.
— Откуда это у вас?
— Один русский дал. Ваш. Я же тогда на афише писался Мурат Казбек. Так, для французской публики. Они ведь считали: Кавказ — значит, дикий. Им нравилось. Ну, он мне и отдал коробку, а я уж сюда, на память о доме.
Мы с Николаем Николаевичем промолчали.
Далек был дом Гаджиева от номера турецкой гостиницы.
Перевернули страницу. На следующей был помещен снимок: у разрисованного узорами щита стояла молодая женщина в цирковом костюме с распавшимися по оголенным плечам длинными волосами. Над ее головой, вкривь и вкось впившиеся в щит, блестели кинжальные ножи.
— Моя жена это. Русская. Из Одессы. С матерью в Париж приехала. Тут еще девица, — хрипел старик. — Я потом на ней женился. Моложе меня на тридцать с лишним. Ничего, давно живем.
Метание ножей в мишень, перед которой стоит живой человек, — давно запрещенный в нашем цирке один из «смертных» номеров. Мастерство бросающего ножи тут состоит в том, чтобы всадить их в щит как можно ближе к голове живой мишени. Тут всегда риск и бесстрашие партнерши, но главное — игра на нервах публики.
— Я не сразу в цирк пошел, когда погоны снял, — продолжал рассказывать Гаджиев. — Сперва в Константинополе, в порту, с одним компаньоном тараканьи бега открыли. Прогорели с этими тараканами. Ничего не вышло. Балаган с молотка пошел.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
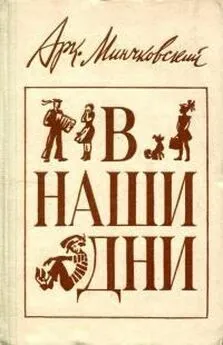
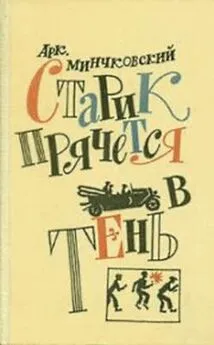
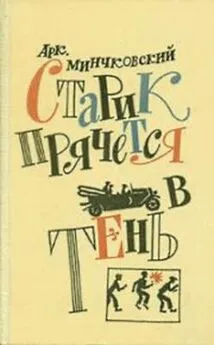
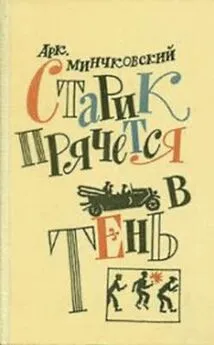
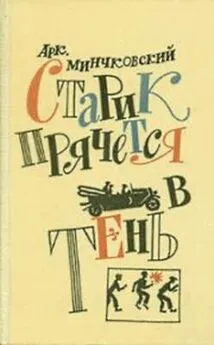

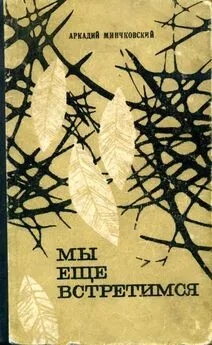
![Аркадий Минчковский - Небо за стёклами [сборник]](/books/1073677/arkadij-minchkovskij-nebo-za-steklami-sbornik.webp)