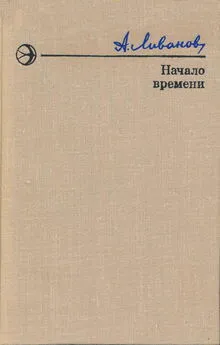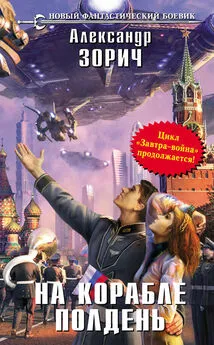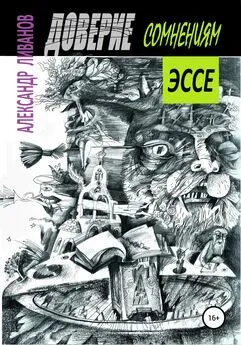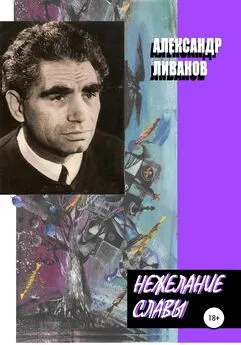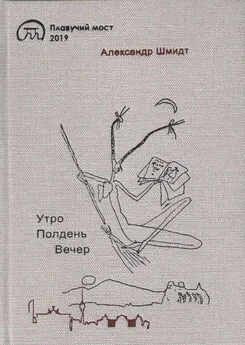Александр Ливанов - Солнце на полдень
- Название:Солнце на полдень
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Ливанов - Солнце на полдень краткое содержание
Солнце на полдень - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Усте стихи нравятся! Радостной растроганностью светлеет ее лицо — и кажется почти красивым. Она бежит с листком — к Белле Григорьевне. Я вяло плетусь за ней, за редактором. Лишнее это рвение. Холуйство. По-моему, редактору подобает быть самостоятельным, независимым. Вроде поэта. Они — единомышленники. Третий — лишний. Как сказано у Пушкина — Шура мне говорил — «тайная свобода». Иначе это не поэзия! При чем Белла Григорьевна? «Но ты останься тверд, спокоен и угрюм». Стихи родил я легко и быстро. Нагрузка без страдания, без труда души. Ни твердости, ни спокойствия, ни тем более угрюмства. Прости, Пушкин! Я не поэт… Усте и Белле Григорьевне не нужен поэт… Вспоминаю слова нашего шофера Балешенко о том, что со стороны все просто, что суть — она всегда скрыта от глаз. Наверно, и стихи мои без этой самой сути. Впрочем, конец стихов… мне и самому кажется, что здорово он получился: «Хоть мы детская бригада, кой-кому мы нос утрем, до начала листопада урожай мы соберем». Правда, «кой-кому» мне самому не понятно. (Зато понятно, что кто угодно сопливые, а не мы, приютские дети!) Кому я адресую этот темный намек? Недоверчивому Карпенко? Товарищу Полянской, которая была против нашей поездки в колхоз? (Может, она полагала, что нам, будущим бойцам мировой революции, как мы ею часто назывались в ее митингах-беседах, негоже занимать помидорами руки, предназначенные для лихих сабель и развернутых знамен?)
Беллу Григорьевну мы застали в комнате Оксаны Ивановны. Тут же и тетя Клава, и сама хозяйка — Оксана Ивановна. Все они штопают наши чулки. Три грации. Устя — редактор. Выходит, я Парис. Где взять яблоко? Нет яблок, как мифам глянется помидор? Когда-то помидоры звали яблоками сатаны. Считали отравой. Для нас они все та же отрава.
Я с любопытством осматриваю комнату, в которой живет не кто-нибудь, а учительница! Лозовая кушетка вся в экзотических подпалинах. Стиль «птичьего глаза» или тигровую шкуру имел в виду создатель этой лозовой кушетки? В углу — треугольный столик, застеленный полотняной вышитой скатеркой. Поверх скатерки знакомый поднос, а на подносе — начищенный до сияния двухведерный самовар. На стене, веером — фотографии. Среди них — красноармейская. Лицо красноармейца мне кажется знакомым! Странная у меня память — никак не втолкнешь в нее доказательство иной теоремы, а вот лицо я запоминаю с одного взгляда… Не служит ли этот красноармеец в сорок пятом полку? Оксана Ивановна всплескивает руками:
— Ты откуда моего Мыколу знаешь?
Вовсе никакого Мыколу я не знаю. Просто готов дать голову на отсечение, что этот красноармеец переодевался в старух и очень смешно их представлял на сцене, он же пел во время самодеятельности «Солнце нызенько» и еще «Дывлюсь я на небо тай думку гадаю».
— Он, он, чертяка! — радуется Оксана Ивановна, будто нечаянную весточку получила от жениха своего. — Это его, его излюбленные писни! Он и русские песни исполняет, он и на гитаре мастак. Очень талантлив! Но — пустограй! Пишет — «изменишь — встану вместо головной мишени на стрельбище».
Еще один талант. Особого — пустограйного — сорта…
Куча чулок лежит на табуретке. Вернее сказать — это останки чулок. Только терпеливым женским рукам дано их возродить, вернуть к жизни. Страшней всего зияют пятки. Будто, несмотря на все усилия наших воспитателей — вести нас вперед, к вершинам дисциплины, мы трусливо пятимся назад, вытаптывая до дыр эти пятки. И еще — продольные прорехи! Они кажутся мне проеденными добросовестными, старательными — неукоснительными — гусеницами. Прилежание зла. Возможно, что гусеницы даже соревновались в этом поедании наших чулок, спеша параллельными дорожками вязки — как бегуны на стадионе. Сколько таких зияющих дорожек на наших бедных чулках!
Я вспоминаю, что это утром тетя Клава сказала Леману про чулки. Он ответил что-то про закалку, тетя Клава мягко возразила про простуду. И, как всегда, вышло по тети Клавиному. По правде говоря, зябко, когда встаем утром, во время росы. Цыганский пот прошибает!.. Добрая мамка наша, простодушная, книжная и человечная, нелепая и щедро одаренная любовью тетя Клава, дочь поповская, — спасибо тебе за все!
Впрочем, мое спасибо сдержанное, мысленное, без слов; и слава богу, что без слов. Как мало порой можно сказать словами! Вот вроде этих стихов про помидоры. У меня такое чувство, — будто я насмеялся над ребятами, над их нелегкой, — может, первой в жизни страдой, над их честным потом и трудовыми мозолями. Мозоли, впрочем, не от помидоров — от проволочных ручек ящиков.
Я думаю, что Белле Григорьевне стихи не понравятся. Я очень надеюсь на это. И надо мной ребята не будут насмешничать. Разве что тетя Клава заглянет в листок — и похвалит меня. Конечно, будет помянут Пушкин! И будет звенеть про талант. Очень надо… Колька Муха и Ваня Клименко будут дразнить меня…
Прочитав стихи, Белла Григорьевна возвращает Усте листок.
— Молодец! Ты у нас как Пушкин! — сказано мне.
Ну конечно, не Лермонтов, не Некрасов. Не Блок или Есенин, которых нет в наших хрестоматиях, но о которых я узнал от Шуры. Как похвала, так Пушкин! И чем больше Пушкиных, тем больше Пушкин остается один-единственный…
— Стишки — это еще не поэзия, — скромно замечаю, сообразив, что эти слова Шуры не обязательно известны тете Клаве.
Все три женщины изумленно ахают от глубокомыслия моих, вернее, Шуриных, слов. Я краснею, мне пора убираться, иначе ляпну что-нибудь несуразное. Это уж точно. Когда я краснею, что-нибудь ляпну глупое-преглупое. Потом долго мучаюсь от стыда.
Уже добрую четверть часа стоим мы в строю — малыши впереди, позади каждого малыша кто постарше. Это, конечно, большое отступление от лемановского «по-военному!». Уж чего-чего, но мы хорошо знаем, что в армии высокому росту оказана честь, он впереди! Когда красноармейцы возвращаются из бани, с румянцем во всю щеку от легкого пара, когда у них особенно хорошо получается строевая песня про паровоз, летящий вперед и помнящий свою остановку — у коммуны, мы испытываем некое конфузливое сочувствие к коротышкам, вынужденным обретаться в последнем ряду. Себя мы в будущем видим, во всяком случае, впереди идущими, в первой четверке! Пра-во-флан-го-вы-ми!
— Что за парад? — толкнув в бок, спрашивает у меня Колька Муха. Я не знаю и пожимаю плечами. Колька Муха думает, что я не хочу с ним разговаривать (есть и такой способ воспитания: бойкот. С провинившимся никто не разговаривает), потому что в стенгазете Устя его поместила верхом на раке, на черной доске. Не на кляче, не на черепахе даже! Рак — тот не просто отстает. Он пятится назад! То есть Колька Муха тянет назад весь интернат.
Странный человек Колька Муха. Казалось бы — с его самолюбием — ему бы не сходить с красной доски, мчаться на поезде курьерском или даже на самолете! Ведь у него не самолюбие, а целое законченное тщеславие. Ох, как переживает свою неудачу Колька Муха! Он хочет прослыть героем, он, мол, один не боится Лемана. А вот застал его Леман спящим между своими рядками, попал на черную доску и теперь злится на весь белый свет. «Вы тут все фрайера! Я все равно убегу! Вы еще услышите обо мне!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: