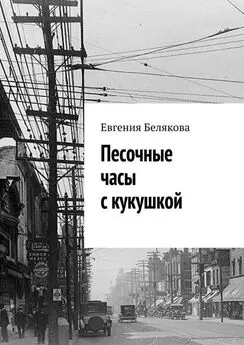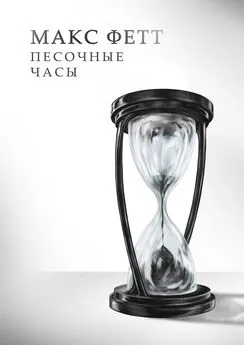Миервалдис Бирзе - Песочные часы [Повесть]
- Название:Песочные часы [Повесть]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1968
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Миервалдис Бирзе - Песочные часы [Повесть] краткое содержание
Песочные часы [Повесть] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Публика постепенно притихла. Готические своды возносились в вышину, вселяя торжественное предчувствие некоего откровения, которое здесь услышат, откровения, которое истинно и сегодня и вечно, — даже тогда, когда сидящих здесь уже не будет на свете. В окнах витражи цвели яркими полевыми цветами. Они было словно часть той великой природы, в чье небо вонзались стрелы этих кирпичных сводов.
Рядом с Эгле сидела пожилая пара. Он был сух и морщинист, шея в твердом воротничке, словно стебель увядшего цветка, поддерживала безволосую голову. Несколько запрокинув ее, он сидел неподвижно на протяжении всего концерта. Его супруга держала на коленях шитую бисером сумочку. На лицах обоих было напряженное внимание. «Они слушают без страха, хотя и стары», — заметил про себя Эгле. Они уже передумали обо всем, что рассказано в реквиеме.
Вдоль стен стояли старинные скамьи с пультами, на которые раньше клали молитвенники. На первой скамье внимание Эгле привлек молодой человек с неподходящей его возрасту бородкой. Юноша, подперев бородку ладонями, почти не шелохнувшись, просидел весь концерт и лишь изредка поднимал невидящий взгляд. Эгле, встречавший на своем веку много людей, понимал, что этот влюблен в музыку и, слушая ее, испытывает и боль, и радость, и тоску.
Ударил гонг. Все замерли в ожидании. Эгле больше не видел своих соседей. Казалось, передний ряд органных труб выдвинулся вперед, в зал. Звуки, лившиеся с хоров, больше не ограничивались ни стенами, ни сводами потолка, звучание стало каким-то повсеместно сплошным; и алтарь, и боковые приделы — весь собор заполнила музыка. О большом, что пережил за жизнь человек, рассказывал в этот предвечерний час орган.
Смерть, помимо прочего, еще и разлука. Наверно, тягостней всего будет миг расставания, когда каждый удар пульса говорит: «Навеки, навеки». Для тех, кто остается, это «навеки» будет звучать дольше, иной раз многие годы. Об этом рассказывала музыка, об этом пел хор, что бы там ни означали латинские слова.
Что ж помогает встретить этот миг? Малодушным — бог и вера в «вечное блаженство». «А мне? — думал Эгле. — Во мне сохранилась капелька отваги. Мне остается сказать себе: таков закон — из праха ты произошел, во прах тебе и обратиться. Некоторое время ты побыл „венцом творения“, был прекраснее розы с каплями утренней росы на лепестках, могучей дуба, чьи ветви могут укрыть от непогоды, и ты летел дальше и выше, чем журавли, потому что долгие годы ты был Человек. И по тебе опять же останутся человеки — твой сын, твой народ, которому ты своим трудом врача помогал жить и расти, спасая всего лишь несколько из множества жизней. Значит, ты и сам после мига расставания, именуемой смертью, не перестанешь быть».
В вышине, над публикой, хор и орган пели о всемогуществе природы, возникало впечатление, будто из дали Вселенной они взирали на землю, привычно свершающую свое кружение и озаренную солнцем. Потом тихо, словно баюкая, пели про боль и вечную любовь. А разве боль не есть порождение любви? Почему мы оплакиваем того, кто ушел? Потому что мы его любили. Так что ж, может, из-за этого нам не любить? Нет, нет! Человек никогда больше не будет жить, как пещерный зверь, украдкой от других раздирая свою добычу. Человек любит свет, солнце, цветы, море, горы, облака и всегда тянется к другу. Он всегда кого-то любит. За любовь расплачиваются болью разлуки, и все же любят.
Волны звуков, в которых колыхались сердца всех слушающих, постепенно улеглись в плавную гармонию, и казалось, что в бескрайней дали океана времени забрезжил лиловый отсвет закатного солнца. Мир для ушедших из нашей жизни наступил.
Хор уже не пел, но долго еще звучала тишина под средневековыми сводами. И лишь когда смолкла и она, люди поднялись, чтобы возвратиться к своим житейским делам. Но они еще будут думать над тем, про что поведала им музыка. И хоть на какое-то время им захочется стать лучше.
Постукивая палочкой по кирпичным ступеням, Эгле вышел на площадь одним из последних. В нем еще звучал могучий «Диес ире».
Вдали гремели фанфары. Это говорило о приближении Судного дня. И все ближе, ближе. На несколько мгновений все — природа и люди — умолкли в ожидании. Надвигалась грозовая туча. Она шла над верхушками сосен, над ржаным полем, взволновавшимся в бурю, словно озеро. Трава перед тучей склонялась, и зелень ее темнела. Зигзаги молнии касались верхушек одиноких деревьев, гремел гром. Об этом в музыке рассказал «Диес ире», день гнева, Судный день.
Эгле огляделся. Просторная площадь перед собором понемногу пустела. Интересно, эти люди, что по узким улочкам Старой Риги сейчас возвращаются к своей повседневной жизни, — все ли они поняли слова реквиема: Quidquid latet, apparebit nec inultum remanebit? [1] «Все скрытое станет явным и не останется неотмщенным» — строки из католического гимна «Dies irae».
Вполне вероятно, что кое-кто за его вопрос — слыхали ли вы о Судном дне? — примет его за религиозного чудака. «Никаких Судных дней не было, нет и не будет!» — услышал бы он в ответ. Но вот тогда Эгле принял бы гордую осанку и напомнил: «Такой день настанет для каждого. Не бог будет судить нас, бога не существует, но у Человека существует совесть, и Судный день совести будет у каждого из нас. Великий суд, о котором поведал композитор. И на этом суде, как поется в реквиеме, „тайное станет явным, и воздастся каждому по делам его“, потому что свершится в присутствии неподкупного свидетеля, имя которому Память. Каждый однажды предстанет перед судом своей совести. Она будет судить за преступления, не предусмотренные кодексом законов. Нет закона, по которому ты обязан в трудный час поделиться куском хлеба; и лишь ты один знаешь, мог или не мог протянуть руку утопающему, ведь посреди озера не было никого, кроме вас двоих. Существуют преступления, не сговоренные законами. И у того, кто считает, что ему такой суд не грозит, возможно, отсутствует совесть».
В глубокой задумчивости Эгле медленно шел к машине.
Стараясь не привлекать внимания прохожих черными фраками и белоснежными манишками, из собора выходили хористы в наброшенных на плечи пальто.
Однажды утром из парка вышли трое мужчин и направились к санаторию. В их тяжелой походке чувствовалось достоинство. Так шагают мужчины, сознающие свою силу, которым ничего не стоит плечом опрокинуть воз сена. У всех троих рубахи были расстегнуты, рукава закатаны по локоть и пиджаки накинуты на плечи, чтобы ничто не стесняло мускулы, готовые прорвать коричневую от загара кожу. У одного из них на шее небрежно повязан цветастый платок. Это был Вагулис.
Проходя мимо открытых окон главного корпуса, они увидали больных, игравших в домино. Вагулису показалось, что они тут стучат костяшками целый месяц, так и не прервав игры с той минуты, как он уехал. Вот так же и он сидел среди них в унылом больничном халате, в шлепанцах-недомерках.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Миервалдис Бирзе - Песочные часы [Повесть]](/books/1087361/miervaldis-birze-pesochnye-chasy-povest.webp)


![Миервалдис Бирзе - Розовый слон [сборник]](/books/1073470/miervaldis-birze-rozovyj-slon-sbornik.webp)