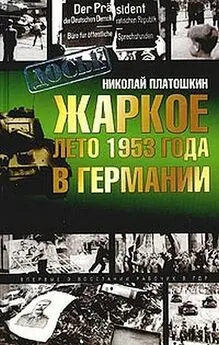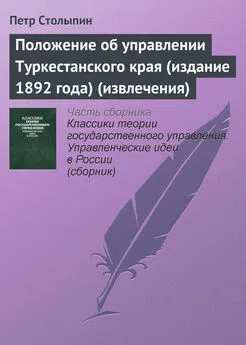Николай Строковский - Тайгастрой [издание 1957 года]
- Название:Тайгастрой [издание 1957 года]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Державне видавництво художньої літератури
- Год:1957
- Город:Київ
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Строковский - Тайгастрой [издание 1957 года] краткое содержание
Тайгастрой [издание 1957 года] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Наступала весна с каждым днем стремительнее. И в то время как по одной стороне центральной дороги, проходившей через завод, среди цеховых сооружений уже бурно текли ручьи и девушки крошили лопатами рыхлый ледок, на другой стороне, в тени, лежал скользкий синий лед, прочно хранивший зимний холод. Его скалывали ломами, и он издали казался глыбами угля.
В эти вешние дни пробуждающейся природы возвратились из дальней поездки на рудники Абаканов и Радузев.
После памятных событий на площадке Абаканов стал начальником проектного отдела, а Радуэев — главным инженером. Вместе они бывали на ближних и дальних точках изысканий, вместе вызывали их в краевой центр, в Москву. Жизнь поставила их в такие отношения, при которых вое между ними должно было быть искренним, не вызывающим ни малейшей тени недомолвок или сомнений.
— Ну, зайдемте ко мне, хоть на минутку, — пригласил Радузев Абаканова, когда машина, в которой они приехали из Хакассии, остановилась у гостиницы.
— Нет, спасибо, Сергей Владимирович, не могу... Пойду на площадку, дел, сами знаете, сколько... Да и вам нездоровится... Зубная боль вас замучила вконец...
— Воля ваша...
Они расстались.
Возле дома молодых специалистов Абаканов повстречал Женю. Тоненькая, голубоглазая, как василек во ржи, в весеннем пальто и синей шапочке, Женя показалась ему после продолжительной разлуки такой родной, что он остановился, пораженный.
— С дороги? — спросила Женя, поглядывая на чемодан, который Абаканов держал в руке.
— Только что возвратились с Радузевым.
— Ну, что там?
Он рассказал.
— И мне скоро стелется дорожка...
— Куда, Женя?
— В Ленинград. Поеду оформляться. Поступаю в кораблестроительный институт.
— Бежать с площадки? От вас ли слышу, Женя?
— От меня. И зачем вы так... бежать... Разве я бегу? Это в первые месяцы, когда нас тут работала горсточка, нельзя было никуда уехать. И это было бы бегством от трудностей. А теперь... Найдется кому заменить Женю Столярову. Вот пустим завод — и уеду.
Он задумался.
— А здесь что? — Абаканов показал на сердце.
— От вас никогда не скрывала...
И Женя ответила, что дурное вырвала с корешками, хорошее осталось. Осталась память о честном человеке, остались дни радостного труда, лунные ночи в тайге, осталось то, что не поддается увяданию и что не может вызвать ни в ком ни ревности, ни упрека.
— А у вас, Михаил Иванович?
— Что у меня... — он вздохнул. — С Любой пришлось проститься. Я стоял на пороге. Стоял между Сергеем и Любой. Кто позволил бы теперь, после всего пережитого Радузевым, увеличивать его страдания? Мы простились с Любой трогательно, простились навсегда, хотя в любой час я могу придти к ним в дом или встретить Любу на улице. У нас совесть чиста. Но это уже будут встречи при погашенной иллюминации...
Женя выслушала, опустив голову.
— Благородство человека не в тех делах, которые можно проверить, а в тех, которые проверить нельзя. Вы поступили честно. Я в этом не сомневалась. И мы с вами, словно потерпевшие кораблекрушение...
— Потерпевшие кораблекрушение? — эта мысль понравилась ему. — Пожалуй... Только мы с вами выброшены не на таинственный необитаемый остров, а на многолюдную заводскую площадку.
— Что же нам делать дальше? Как жить? Я много думала. И пришла к мысли, что труд и любовь — это как бы ось жизни. Человеку нельзя жить без труда и любви.
— Ось жизни? Не знаю. Не думал об этом.
— Мне говорили, Михаил Иванович, что вам выделили хорошую квартиру?
— Да, хорошую. Очень хорошую. Перед отъездом в Хакассию я переселился. И так странно, Женечка... Допоздна шагал я из комнаты в комнату и слушал свои шаги...
— До чего мы похожи друг на друга! — воскликнула Женя.
— Похожи? А кто недавно, первого августа, когда закладывали фундамент под первую доменную печь, пропел мне: «Я не для вас, а вы не для меня...»?
Улыбка появилась на строгом лице Жени.
— Неужели помните?
— И не только это. Признание за признание. Когда бродил в тот первый день по своей чудесной квартире и думал, кто войдет сюда хозяйкой, мое воображение вдруг привело сюда одну девушку с васильковыми глазами и золотыми кудряшками, одну девушку с хорошей, чуткой душой...
— Кто она?
— Не знаете?
— Нет.
— Вы!
— Я? — изумилась Женя.
— Ты!
Лицо Жени залила густая краска.
— Не говорите так! Не смейте говорить так! Неужели не понимаете, что нельзя таких слов говорить девушке... — и она побежала, оставив Абаканова с чемоданом на краю тротуара.
Побыв несколько минут дома, Радузев стал собираться на площадку. В дороге он простудился, ныли зубы, разболелась нога: ранение на фронте давало о себе знать в сырую погоду.
— Зачем идти? Побудь с нами, ляг, согрейся, ты, кажется, по-настоящему заболел в дороге. Я выпишу врача, — уговаривала Люба.
— Не могу, Любушка, там ждут. Я ненадолго. И Михаил Иванович пошел не домой, а на завод.
Радузев подвязал щеку черным платком, сложенным в несколько раз, надел окопную свою серо-буро-малиновую шинель: дорогу развезло, было грязно на площадке, и он не хотел пачкать новое пальто.
Шел он через площадку к конторе, мрачный, насупленный, слегка прихрамывая на левую ногу. Холодный ветер вызвал приступ лихорадки. Радузев поднял воротник шинели, насунул глубже папаху.
Невдалеке от конторы он увидел Гребенникова и Журбу, которые оживленно разговаривали.
Фигура неизвестного человека, несколько странно наряженного, весь его облик вызвали у обоих такое тревожное воспоминание, что они оцепенели.
Схватив друг друга за руки, они впились глазами в приближающегося человека, не в силах побороть волнение, не в силах отделаться от догадок, которые вдруг ринулись из далекого прошлого.
...Тонкий профиль интеллигентного лица, нос с горбинкой, черная повязка на щеке, шинель с поднятым воротником, прихрамывающая походка...
И вдруг у Гребенникова вырвалось:
— Так вот, кто нас вызволил!
Радузев остановился.
— Это вы?
Радузев глядел в лицо то одному, то другому. Наконец, молча кивнул головой.
Минут через пятнадцать они сидели в кабинете Гребенникова.
— Значит, это вы нас спасли от расстрела?
Радузев не сразу собрался с ответом. Целые пласты давно пережитого снова, как тогда, при встрече с Лазарем, поднялись со дна его жизни, поднялись через тысячи других воспоминаний, которыми он ни с кем не делился и которые поросли быльем.
— Расскажите, бога ради, — торопил Гребенников.
Но Радузев продолжал молчать. Можно было подумать, что с этой исповедью он потеряет нечто большое-большое в своей глубоко интимной жизни, то, что много лет составляло, для него самое дорогое.
— После бегства из Грушек в Одессу мы с Любой поселились в квартире, которую занимала семья одного генерала. Сын главы семьи, штабс-капитан, до революции служил со мной в одном артиллерийском дивизионе. Мы были дружны до тех пор, пока меня за один случай чуть не разжаловали в солдаты. Я попал в пехоту. Этот офицер любил Шопена, и я почти каждый вечер играл ему. Он привязался ко мне. Может быть, даже полюбил. От него я узнал, что готовится расстрел трех коммунистов: ценитель Шопена, сколь ни странно, служил в контрразведке... Он знал, что я из Престольного и сказал: «Земляка твоего ставим к стенке. Поймали большевиков-подпольщиков: твоего Лазаря и еще двоих — Гребенникова и Журбу. Они все — опасные коммунисты. Мы их расстреляем. Выдал их провокатор. Перекинулся на нашу сторону и выдал с головой! Что скажешь?» Я рассказал ему, чем обязан Лазарю, спасшему мне жизнь, моему другу детства, и просил устроить побег всех троих. Я считал, что этим хоть в какой-то мере искуплю мою вину перед народом, меньше буду казнить себя за то, что позволил врагам расстреливать на моих глазах невинных людей, крестьян, моих соседей и не вмешался, не погиб вместе с ними. Русский человек, честный человек, я не мог, не смел так поступить, меня жгло раскаяние. Я казнил себя дни и ночи. Я не мог жить с пятном труса на совести. И вот представлялся случай смыть пятно. Офицер ответил, что дело трудное, но я знал, что у белых деньги сильнее законов, дисциплины, обязанностей и просил пощупать почву. Он обещал. Накануне расстрела офицер сказал, что в наряд назначаются свои ребята, можно попытаться. Только потребуются крупные деньги. Я отдал ему золото — портсигар, кольца, цепочки, часы. Но я не верил ни этому контрразведчику, ни его «ребятам» и обещал дать еще столько же, если он устроит так, чтобы я сам мог удостовериться, действительно ли отпустили вас на волю. Он обиделся. Дело почти сорвалось.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Николай Строковский - Тайгастрой [издание 1957 года]](/books/1090143/nikolaj-strokovskij-tajgastroj-izdanie-1957-goda.webp)