Виктор Козько - Колесом дорога
- Название:Колесом дорога
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:0101
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Козько - Колесом дорога краткое содержание
Колесом дорога - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Откуда ты только такой взялся на мою голову,— усовещал Матвей очередного своего механизатора.
— Оттуда, с юга Западной Сибири. Строитель я, одним словом,— механизатор смотрел на него и улыбался.— Я тут ни душой, ни телом, председатель. Курица виновата.
— В чем же провинилась перед тобой курица?
— Как в чем? Я трезвый и побритый, кум королю, еду по улице, а она на дорогу и под колеса.
— И перевернула тебя вместе с трактором и прицепом в кювет?
— Точно, председатель. Откуда ты все так точно знаешь? И трактор, и прицеп чертова курица обернула, как сам еще жив остался.
— Хватит придуриваться, давай серьезно.
— Что серьезно?
— Пьешь почему? Прогуливаешь почему, трактор почему угробил? Сельский ведь сам, белорус?
— А что, белорусам пить запрещено?
— Тебя тут приняли, работу, квартиру сразу же дали...
— Вот чтр, начальник, ты меня работой и квартирой не попрекай. Не ты давал, государство, государственная у меня квартира.
— Колхозная.
— Все равно не твоя личная. У Кольки Беднарика столько квартир, сколько городов и деревень на земле. Все его и всё его.
— Так и земля твоя...
— Земля? Не, земля не моя. Она твоя, председатель, земля. Я работник только на ней.
— Почему же не работаешь?
— Как это не работаю? — тут механизатор уже обиделся.— Как это не работаю? По способности, председатель.
— Вот за твои способности собирай манатки и на все четыре стороны.
— А это уж дудки, председатель, у меня семья, трое детей. Есть еще и Советская власть, советский закон и суд. И дети мои, моя семья под охраной власти и суда советского и закона...
К вечеру Беднарик опять был пьян, хотя в деревне ввели сухой закон и ни водкой, ни вином не торговали.
Но не только «стягачей» приходилось опасаться Матвею. Не меньше он боялся, как бы не вылезло на свет его собственное самоуправство. На свой страх и риск в этом году он занял многие из торфяников не под картошку и свеклу, пшеницу и кукурузу, как предписывалось, а под травы, прикрыв только с дороги эти травы где пшеницей, а где кукурузой. И в любую минуту это могло обнаружиться, а тогда... В районе на него косились уже давно. И не раз прямо и намеками давали понять, что другой бы на его месте с такими землями за год-два непременно получил бы Звездочку, а он носится со своими травами, как дурень с писаной торбой. И тут уже ставили ему в строку каждое лыко. На одном из совещаний раскрыл газету, приметили, выговорили: не указ, мол, тебе уже, Матвей Ровда, район и районное начальство, скучно слушать районные разговоры, газетки на совещаниях почитываешь. Читай, читай, смотри...
Вот сквозь такие мелкие хлопоты и заботы, как сквозь фильтровальное сито, и утекало время, не шло по минуте, по капле, текло без всплесков, в одном заданном, хотя, может, и не совсем определенном направлении. Однонаправленность убивала его, вместо тоски Матвея уже иной раз одолевала и просто скука. А тоска была даже где-то и приятна ему, в ней присутствовало что-то живое, щемящее, пережитое когда-то, но пережитое второпях, на бегу. Тоска понуждала его еще раз вернуться к этому пережитому, попытаться возродить его, выйти в тот день и час, о котором, вспоминая, плакала память, вернуть канувшую в вечность минуту и час, а то и день, жить обволакивающей светлой грустью той минуты, в общем, ничего значительного в себе не несущей, но дорогой и сладкой, ибо он был целен в той минуте, заключавшей в себе то ли сентябрь с бабьим летом, с летящей по ветру паутиной и дрожащей каплей росы на стерне, то ли случайное и торопливое прикосновение девичьей руки. Он мог тосковать по той росинке, вспоминать, какой она предстала перед его глазами, как переливалась и дрожала, застигнутая врасплох осенью, его душа, как рванулось и заторопилось навстречу другому сердцу его сердце, каким жаром обдало его и как он был счастлив, что и слов не находил. Сейчас же слова находились, и он выговаривал их про себя в пустоту, забыв, что никого уже рядом, и не особенно нуждаясь в том, чтобы кто-то был. Память в изобилии восстанавливала промчавшееся время до последней детали, когда не было никакого еще двоения и мир был огромен и непознан, и он знал, что познает этот мир, так прекрасно сотворенный, он пройдет, прошьет его. Сейчас же такой слитности с тем, что окружало его, он не чувствовал.
И не с кем было поделиться, как это бывало прежде, в студенчестве, на целине, когда из-за пустяка могли надрываться, орать всю ночь. Не доспорив в общежитии, бежать доспаривать в ночь к речке, к какому-нибудь ключику, а на целине в степь. На целине он бегал доспаривать вместе с Рачевским, не с одним ним, были и еще ребята, но Рачевский вспомнился потому, что он сейчас здесь и ему, Матвею, вроде как только о деле, не о чем сейчас и поговорить с ним. На целине спорили о космосе, потому что близко был Байконур, здесь же, в Белоруссии, о болотном черте, кикиморе. Уж и не вспомнить, с чем они тогда выбрались к речке, что обсуждали и с чего завелись. Но внезапно им стало давяще тесно в общежитии. На бегу к той речке, помнится еще, Рачевский купил у какой-то поздней старушки букетик заморенных синих пролесков, купил и тут же подарил первым встречным девчонкам. У воды была какая-то давящая тишина, после города, общежития она обрушилась на них сверлящим уши криком лягушек. Они сначала и не поняли этой тишины, кто-то даже спросил, что это такое.
— Это такой у нас закон,— ответил Рачевский.
— Какой такой закон?
— А чтоб лягушки кричали и тихо было. Лягушки все местные, потому и кричат...
И тут подал голос кто-то другой, ухнул, будто обжегся о холодно кипящую на песчаных перекатах весеннюю речную воду, обжегшись, безутешно заплакал, как плачет дитя.
— А это кто?
— А это кикимора. Это у нее тоже такой закон. Где лягушки, там и кикимора. Айда искать кикимору.
И они на полном серьезе бросились искать эту кикимору, хотя в глубине души каждый, наверное, знал, что ухала и плакала сова. Она плакала всю ночь, и каждый раз плач этот ее доносился до них уже из другого места. Сова словно дразнила их, вела по кругу. И они шли по кругу, отвлекаясь порой во все еще продолжавшемся споре от предмета своего поиска, уходя от кикиморы совсем уже в какую-то чертовщину. А когда устали, разожгли костерок и уселись у этого костерка, Рачевский ушел в поиск один. И вернулся лишь на рассвете, мокрый и без ботинок.
— Нашел,— сказал он,— поймал было уже кикимору, но ботинки раскисли от воды и слетели. Жалко, почти на хвост ей уже наступил,— и вздохнул так горестно, что не поверить ему было невозможно.
Сейчас Рачевский был еовсем не таким, от прежнего Рачевского сохранилась только походка, быстрая, подпрыгивающая. Детей было двое, мальчик и девочка, толстенькие и в мать черноглазые и задумчивые. А она в двадцать пять лет походила на молодую еще козочку, нескладная, угловатая, с острыми выпирающими коленками, стесняющаяся этих коленок и угловатости и потому на все отвечающая согласной, обращенной скорее в себя, чем к собеседнику, улыбкой. Эту улыбку ее перенял и Рачевский, но только внешне, в его улыбке всегда таилось снисхождение и знание чего-то недоступного Матвею.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
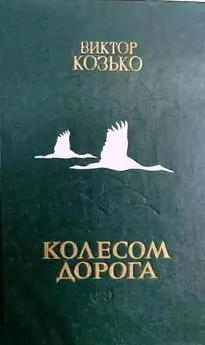



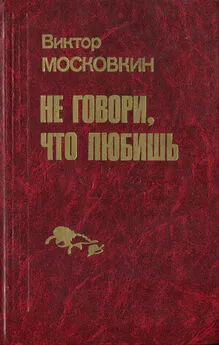
![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/611898/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska.webp)
