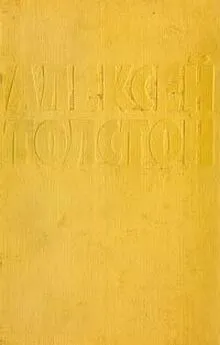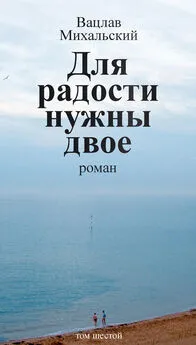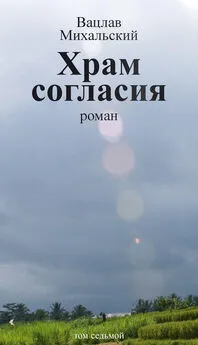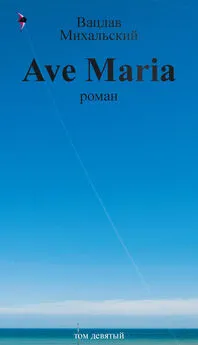Алексей Толстой - Собрание сочинений в десяти томах. Том 6
- Название:Собрание сочинений в десяти томах. Том 6
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное Издательство Художественной Литературы
- Год:1959
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Толстой - Собрание сочинений в десяти томах. Том 6 краткое содержание
Собрание сочинений в десяти томах. Том 6 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это нашло свое отражение, например, в эпизоде, рисующем Рощина и Катю, идущими по улицам Петрограда накануне Октябрьского выступления. Слова, которые произносил Рощин, проходя мимо особняка Кшесинской, где помещался штаб большевиков, слова, отраженно звучавшие и в авторском тексте, — рельефно выявляли контрреволюционную сущность Рощина:
«— Вот змеиное-то гнездо где, — сказал Рощин, — ну, ну…
Это был особняк знаменитой балерины, где сейчас, выгнав хозяйку, засели большевики. Всю ночь здесь сыпали горохом пишущие машинки, а поутру, когда перед особняком собирались какие-то бойкие оборванные личности и просто ротозеи-прохожие, — на балкон выходил глава партии и говорил толпе о великом пожаре, которым уже охвачен весь мир, доживающий последние дни. Он призывал к свержению, разрушению и равенству… У оборванных личностей загорались глаза, чесались руки…
— На будущей неделе мы это гнездо ликвидируем, — сказал Рощин» (текст 1922 г., стр. 455–456).
В последующих изданиях эта сцена подверглась значительной переработке.
Вслед за этим местом в первопечатном тексте шла небольшая концовка, тоже впоследствии переработанная автором, — о встрече Кати и Рощина с безносым расклейщиком (распространявшим по городу воззвание «Революция в опасности»).
Образ Рощина в издании 1925 года меняется: конечно, он далек еще от сочувствия идеям революции, однако он показан теперь не столько в ненависти своей к большевикам, сколько в состоянии растерянности, недоумения, непонимания происходящего, показан переживающим горечь отчуждения от жизни страны. В окончательном тексте «Сестер» (1943) это еще усиливается и такими дополняющими его характеристику штрихами: Рощин особенно обостренно осознает свое состояние, чувствуя себя чужим, одиноким в городе, где готовится революционное восстание.
Одновременно с этой работой над образами героев романа автором были произведены сокращения, придавшие тексту большую компактность и сжатость. В издании 1922 года была, например, сцена, когда Телегин и Даша случайно видят низложенного царя Николая II, работающего на грядках в саду, — эпизод сам по себе колоритный, но не имевший столь тесной связи с основным сюжетным движением. В издании 1925 года А. Толстой его уже не дал.
Писатель правил также те страницы, где давался анализ усложненных психических состояний его героев. Добиваясь большей реалистической простоты изображения, он сокращал или выбрасывал отдельные места, передававшие внутренние переживания героев в слишком причудливом, разорванном течении их.
Большие изменения были произведены в стиле и языке произведения.
Новой значительной правке стиля автор подверг текст романа «Сестры» при включении его в однотомник 1943 года. Сам писатель так говорил об этой своей работе: «Романы, составляющие трилогию, писались с большими интервалами. Нужно было их свести к единому стилю, многое переделать, многое лишнее выпустить, придать им стройность одной книги. Это была довольно сложная работа» (А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 8, стр. 669).
Восемнадцатый год
Впервые под названием «Хождение по мукам» напечатан в журнале «Новый мир», 1927, №№ 7—12, и 1928, №№ 1, 2, 5–7. Первое отдельное издание: «Хождение по мукам. Восемнадцатый год», ГИЗ, М. — Л. 1929. Перепечатывался в собраниях сочинений А. Н. Толстого и отдельными книгами вместе с романом «Сестры».
«Восемнадцатый год» написан в период с апреля 1927 года по июнь 1928 года. Созданию романа предшествовала предварительная работа писателя по подготовке материала, начатая им еще в 1925 году. К этому времени вторая часть трилогии определилась уже как произведение о гражданской войне, о борьбе советского народа с белыми армиями и интервентами. Для реализации такого замысла писателю надо было накопить художественный опыт в изображении революционных событий. Первые самые беглые зарисовки гражданской войны, встречающиеся в таких произведениях А. Толстого, как «В снегах», «Перебей-нос», «Похождения Невзорова, или Ибикус», «Голубые города», были таким ранним опытом писателя в этом направлении.
А. Толстой вспоминал позднее, что при создании романа «Восемнадцатый год» им «руководил инстинкт художника, — оформить, привести в порядок, оживотворить огромное, еще дымящееся прошлое» (А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 563). Вторая книга трилогии задумана была, таким образом, как произведение историческое. Сам писатель так определял отличие «Восемнадцатого года» от предшествующей книги трилогии: «Второй роман — «Восемнадцатый год». Это был предельный историзм. Что спустя семь лет после «Сестер» я взялся за вторую часть, это меня обязывало к каким-то фрагментам историческим. Я первый раз начал писать исторический роман» (Журнал «Новый мир», 1944, № 5–6, стр. 171).
А. Толстой упорно стремился найти для сюжета романа наиболее четкую историческую основу, насытить страницы произведения подлинным жизненным материалом. В его архиве сохранились статьи о гражданской войне, печатавшиеся в исторических журналах; выписки из газет того времени; стенографированные записи воспоминаний участников боев. Так эпизоды, рассказываемые в главе VIII партизаном Пьявкой, написаны по воспоминаниям нежинских партизан.
Известны были А. Толстому и мемуарно-беллетристические произведения представителей белого лагеря Деникина, С. Алексеева, Краснова и др., откуда писатель сумел извлечь «само-разоблачающий» материал — некоторые колоритные факты, иллюстрирующие жестокость, моральное разложение белого офицерства.
Большое значение придавал А. Толстой также поездкам по тем местам, где происходили интересовавшие его события гражданской войны. В своем письме в редакцию журнала «Новый мир» от 29 апреля 1927 года он просит не торопить его со сдачей в печать первых глав «Восемнадцатого года», чтобы иметь возможность использовать материал непосредственных наблюдений, те впечатления, которые могли бы быть почерпнуты им в поездках:
«Конечно, роман можно начать печатать с июня, — пишет он. — Но тогда я не смогу съездить на юг и дать живого пейзажа и тех деталей в портретах лиц, которые получаются только благодаря натуре. Ведь я безвыездно сижу в Питере два года… Еще раз прошу вас помнить, что мной сейчас (в переноске романа на июль) руководит только художественный интерес. Трудность романа огромна (размеры, охват), но еще труднее это сделать из материала гражданской войны, развертывающегося в хронологической последовательности, не литературно-исторический очерк, а роман, то есть превратить все это в ткань искусства. Вот почему мне так важна сейчас эта поездка на юг. Без нее я страшусь сухости, засушки».
В другом письме А. Толстой снова подчеркивает, что он не может ограничиться одним только материалом из печатных источников: «Чем больше точности в деталях, тем художественнее, лучше, не говоря уже о том, что книжный материал дает только схему, а насыщает ее и глаз, и ухо, и ощущение» (Письмо И. И. Скворцову-Степанову 30 июня 1927 г.). А. Толстой всегда стремился к наибольшей достоверности изображаемого. Так, например, в процессе печатания «Восемнадцатого года» он обнаружил, что в одном из эпизодов романа — в рассказе о создании белого правительства в Самаре — им допущена неточность: в тексте было указано на участие известного эсеровского лидера Авксентьева. Тогда вслед за посланной в редакцию рукописью А. Толстой отправляет письмо, где пишет:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: