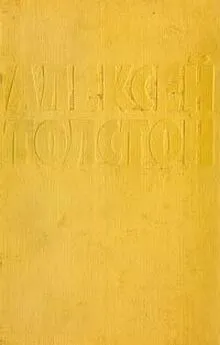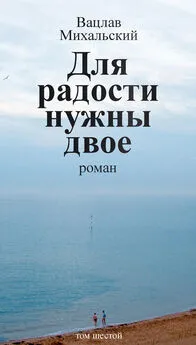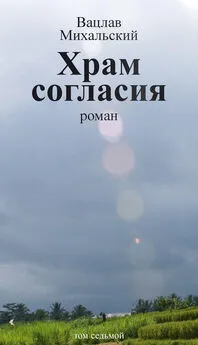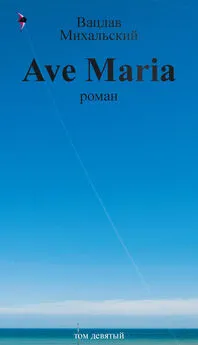Алексей Толстой - Собрание сочинений в десяти томах. Том 6
- Название:Собрание сочинений в десяти томах. Том 6
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное Издательство Художественной Литературы
- Год:1959
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Толстой - Собрание сочинений в десяти томах. Том 6 краткое содержание
Собрание сочинений в десяти томах. Том 6 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Только что мне сказал Щеголев (молодой), что Авксентьева в Самаре не было. По материалам, которыми я пользовался, он был. Но я верю Щеголеву. Поэтому в главе о Самаре нужно выбросить слова Говядина: «От ЦК эсеров — знаменитый Авксентьев, историческая личность» — и заменить их словами: «Все эсеры — непримиримейшие борцы».
И далее… вставить: «Простите (у Дмитрия Степановича мелькнула догадка)… я, очевидно, говорю с членом ЦК партии. Вы не Авксентьев?» Этим я оставлю вопрос открытым… Авксентьев не был членом правительства, но в это время находился на Волге. Пожалуйста, не забудьте внести эти поправки. Ваш А. Толстой» (Письмо в редакцию журнала «Новый мир», 1927).
Один из первых среди советских писателей А. Толстой сделал в своем романе «Восемнадцатый год» попытку художественными средствами воссоздать образ В. И. Ленина. Рисуя выступление Ленина на заводском митинге (см. главу VIII), передавая содержание его речи, писатель использовал «Доклад о борьбе с голодом 4 июля 1918 года», сделанный Лениным на объединенном заседании ВЦИК, Московского совета и профессиональных союзов, а также ряд высказываний его из «Речи на митинге в Лефортовском районе 19 июля 1918 г.».
Во многом уяснить творческий замысел писателя помогает его письмо к редактору «Нового мира» В. П. Полонскому, относящееся как раз ко времени создания им «Восемнадцатого года».
«…Нужно самым серьезным образом договориться относительно моего романа, — писал А. Н. Толстой. — Первое: я не только признаю революцию — с одним таковым признанием нельзя было бы писать роман, — я люблю ее мрачное величие, ее всемирный размах. И вот задача моего романа — создать это величие, этот размах во всей его сложности, во всей его трудности.
Второе: мы знаем, что революция победила. Но вы пишете, чтобы я с первых же слов ударил в литавры победы, вы хотите, чтобы я начал с победы и затем, очевидно, показал бы растоптанных врагов. По такому плану я отказываюсь писать роман. Это будет одним из многочисленных, никого уже теперь, а в особенности молодежь, не убеждающих плакатов. Вы хотите начать роман с конца.
Мой план романа и весь его пафос в постепенном развертывании революции, в ее непомерных трудностях, в том, что горсточка питерского пролетариата, руководимая «взрывом идей» Ленина, бросилась в кровавую кашу России, победила и организовала страну В романе я беру живых людей, со всеми их слабостями, со всей их силой, и эти живые люди делают живое дело.
В романе — чем тяжелее условия, в которых протекает революция, тем больше для нее чести.
Третье: самый стиль, дух романа. Автор на стороне этой горсти пролетариата; отсюда пафос — окончательная победа; ленинское понимание развертывающихся событий; полный объективизм отдельных частей, то есть — ткань романа, ткань трагедии— всегда говорить от лица действующего лица, никогда не смотреть на него со стороны…
…Я умышленно не начинаю с октябрьского переворота, — это неминуемо привело бы меня к тем фанфарам, которых я так боюсь, и дало бы мне неверную перспективу событий. Я начинаю с самого трудного момента — немецкой оккупации Украины инеизвестности, как далеко. зайдет она, каковы силы у врагов. Ведь тогда еще Германия была императорской…
Первая книга (второй части трилогии) кончается грандиозным сражением под Екатеринодаром. Вторая книга — немцы на Украине, партизанская война. Чехословаки. Махновщина. Немецкая революция. Третья книжка — Деникин, Колчак. Парижская эмиграция. Северо-западный фронт. Революция на волоске. Четвертая книжка — победа революции. Крестьянские бунты. Кронштадт.
Вот приблизительный план».
В конце письма А. Толстой высказывает мысль о том, что «Восемнадцатый год» будут читать «не только к десятилетию Октября, но будут читать, может быть, через пятьдесят лет. Будут читать на многих языках земного шара. Я слишком серьезно чувствую свою ответственность» («А. Толстой о литературе. Статьи, выступления, письма», «Советский писатель», М. 1956, стр. 78–82).
Положительный отзыв о романе в это же время дал редактор «Известий» И. И.Скворцов-Степанов, ознакомившийся с произведением А. Толстого в рукописи. «Дорогой Алексей Николаевич, — писал он Толстому, — только что прочитал начало II ч. Вашей трилогии. Оно захватило меня. Если и дальше Вы не спуститесь с достигнутого уровня, получится своего рода «гвоздь» художественной литературы за 1927 год. И как кстати кдесятилетию! Большой мастер виден в каждой строке и в каждом штрихе» (Письмо от 16 июня 1927 г.).
Для А. Толстого работа над «Восемнадцатым годом» была серьезным опытом в освоении сложной темы гражданской войны. Она подводила его вплотную к пониманию и осознанию определенных классовых закономерностей исторического процесса.
Он стремился как можно шире, объективнее отразить картины гражданской войны, охватить в своем историческом повествовании возможно более широкий круг событий. Получалось даже так, что собранных им исторических материалов оказывалось подчас слишком много для одной книги, и, как это видно из приведенного выше письма А. Толстого, писатель первое время намечал вторую часть своей трилогии в виде нескольких (четырех) книг.
Но практически А. Толстой это не осуществил. Характерно, однако, что некоторые из пунктов этого плана (см. цитируемое здесьписьмо к Полонскому) вызвали у писателя вскоре появление других произведений, по существу самостоятельных и лишь тематически перекликающихся с трилогией. Таковы, например, «Записки Мосолова», написанные совместно с П. Сухотиным, и роман «Черное золото» («Эмигранты»).
Для понимания характера работы А. Толстого над «Восемнадцатым годом», особенностей трактовки им темы гражданской войны как величавой героики народа много дает ненапечатанный рассказ А. Толстого «Богун» (1927 г.). В начале его писатель рассказывает о своей работе над материалами к роману:
«Я работаю над романом из времени гражданской войны. Утонул в книгах и материалах. Топится печь, за окном крутится снег над рекой, скрипят в темноте дровяные баржи. Читаю о людях, и они чудятся мне шагающими головой в облаках средн пожарищ. Побеждают и гибнут. Вот мчатся в тачанках, оглашая степь свистом вольницы. Вот босые шагают по снежным равнинам. Бредят в сыпном тифу на сквозняках вокзалов с выбитыми окнами. Конной лавой мчатся в кровавый бой, — сверкают шашки, летят головы. Переходят по горло ледяную воду заливов. Все это история. А где эти люди?
…Об одних я пробегаю страницу книги при свете лампы, о других — строчку, о третьих — лишь догадываюсь…
И здесь в питерском уединении странно подумать, что все это было вчера, что люди эти живы, лишь сбрили с щек колючую щетину военного коммунизма… Так же странно, как если бы указали в окно: «смотрите, вот идет Дантон в ларек за папиросами, а вот Спартак, — помните, он встряхнул до самых кишок древний Рим, — так вот, глядите, едет на извозчике с портфелем» (Архив А. Н. Толстого).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: