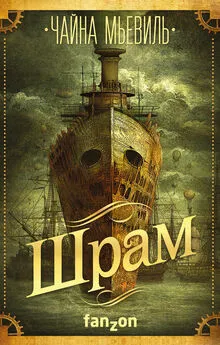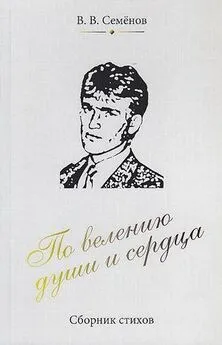Семен Журахович - Шрам на сердце
- Название:Шрам на сердце
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Семен Журахович - Шрам на сердце краткое содержание
В книгу вошли также рассказы, подкупающие достоверностью и подлинностью жизненных деталей.
Шрам на сердце - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Под вечер зашел ко мне ночной сторож, с которым я иногда встречался во время вечерних прогулок. Оказалось, что он и электромонтер по совместительству. А может быть, наоборот… Он чинил настольную лампу и искоса поглядывал на раскрытую книгу. Заметив знакомое имя, уважительно произнес:
— О, Вардан Мамиконян!..
Воспетое в песнях и легендах, это имя знакомо ему сызмалу и жило в памяти рядом со сказочным Давидом Сасунским, как воплощение героизма и любви к родной земле.
Мой гость, его звали Аракел, починил лампу и с благодарностью принял приглашение выпить чашечку кофе. Пока я кипятил воду для немудрящего (растворимого!) напитка, Аракел полистал книгу, потом сказал:
— Еще когда я был совсем маленьким, дед и отец рассказывали мне про Вардана. И учитель… Вай-вай, что то была за сеча! А вы, значит, из Киева? Так я вам скажу: была и на Днепре страшная сеча, ну по-теперешнему — бой. Был я там… Вода в реке клокотала — взрыв за взрывом. От сотен бомб и мин волны вздымались до неба, но не могли они перебороть огонь. И каждая волна была красной — столько крови бежало в Днепр…
На миг мне почудилось, что ожил летописец Егише и заговорил своей, по-восточному цветистой речью.
— Что страшней всего на войне? — спросил Аракел и сам ответил: — Не бомбы и танки, не пулеметы и минометы. Рукопашный бой, вот что. Знаю…
Уставившись в стол, он тихо сказал, что и до сих пор в тяжелые ночи ему чудится хруст ребер, когда в грудь вонзается штык.
Я слушал рассказ солдата, для которого — через десятилетия — кое-что забылось, а кое-что слилось с давним, слышанным от отца и деда, о временах славного Вардана, когда острые копья впивались в грудь врага, как штыки на этой войне. Все битвы против захватчиков от давних времен и доныне слились в одну, все реки алели от крови, все матери-страдалицы тщетно взывали к пустому небу.
3
Теплый вечер. Тихие улочки. Живительная тишина на просторных усадьбах многочисленных пионерских лагерей. Дети разъехались. И не только во все концы Армении, но и во все концы мира. Стало добрым обычаем: республика приглашает детей зарубежных армян, и собирается тут детвора — от Сирии и Кипра до США и Канады, чтоб узнать родную землю и услышать родную речь.
Осенний Цахкадзор, тихий, малолюдный.
Как-то так случилось, что во время прежних поездок в Армению мне не довелось побывать здесь. Теперь каждое утро ухожу в горы — то в том, то в другом направлении — и узнаю (и не узнаю) пейзажи, написанные кистью моего друга, народного художника республики Мгера Абегяна. Узнаю и радуюсь, что нашел именно то место, которое привлекло его. И не узнаю, потому что мудрый глаз мастера увидел в этих пейзажах что-то сокровенное, вглядывался, верно, и в глубь времен, ибо все сегодняшнее на этой земле живет также всей историей народа.
А сейчас хожу улицами притихшего поселка, заглядываю во дворы, где люди заняты своими будничными заботами. Чем ближе к центру, тем ярче раскрывается сегодняшний день: новая школа, новый кинотеатр, библиотека, кафе, гостиница… Но стоит пройти каких-нибудь двести метров, чтобы все минувшее встало перед глазами. На гребне горы вырисовывается, устремляясь в синее небо, маленькая церковь — из темного камня, по-армянски суровая и строгая: лишь орнамент над входом и резной узорчатый крест на стене. Тысячелетняя памятка! И дата эта не приблизительная, не найденная на ощупь в старине, а точная. Вырезанная на базальте надпись свидетельствует, что построена церковь в 1003 году в честь Григория Просветителя. Имя зодчего тоже не забыто, запечатлено на века: Григорий Магистрос.
Ничто не должно быть забыто — этой мыслью пронизана культурная жизнь всего края.
Каждый раз, приходя сюда, я вижу художников. Действительно, чудесный пейзаж. Каждый раз вижу кем-то благоговейно зажженные свечки, хотя церковь давно уже является памятником старины. Мне припомнились слова моего друга-поэта, с которым мы вместе были в Эчмиадзине: «Мы приходим к этим древним памятникам не богу молиться, а отдать поклон нашим просветителям, нашей многострадальной истории и заветам прадедов…»
Возвращаясь в пансионат, я увидел старую женщину, сидевшую на лавочке у калитки. На разостланном полотенце лежали кучками яблоки и груши. Я спросил цену. Она улыбнулась добрыми глазами, что-то сказала и подняла палец. Я отдал ей рубль и, взяв яблоки, поблагодарил по-армянски. Тогда она заговорила быстро-быстро. Однако мой растерянный вид показал ей, что я ничего не понял. Женщина покачала головой и бросила какое-то, видимо, горько-укоризненное слово.
Так я и ушел — с чувством вины перед добрым человеком.
За ужином в пансионате я рассказал об этом соседу по столу, учителю из далекого горного селенья.
— В чем дело, Арутюн Акопович? — спросил я.
— Вы сказали одно слово по-армянски, и она подумала, что вы армянин откуда-то из-за рубежа и забыли свой язык.
Он помолчал, покачал седой головой:
— Вот так могло и со мной случиться…
Я удивленно взглянул на него. Учитель. Знаток армянской поэзии. Что он хочет сказать?
— Если бы вы знали, где и как я выучил первые буквы…
Тер-Зор. Тер-Зор… Впервые я услышал об этой трагедии не из письменных источников, не из документов, собранных в черной книге «Геноцид армянского народа», а из уст живого свидетеля.
24 апреля 1915 года навеки осталось траурной датой, памятной в каждой армянской семье.
В тот день на порабощенной турками западной армянской земле вспыхнули селения и порыжели от крови горы. Полтора миллиона замученных в безумии зверского варварства. И сотни тысяч беженцев, перед которыми была лишь одна дорога — в безводную, выжженную солнцем пустыню.
Мертво вокруг. Серо-желтый песок, в котором вязнут ноги. Песок режет глаза, скрипит на зубах. Плач обессиленных детей: «Мама, пить…» А в ответ — беспомощный стон матерей.
Сколько ночей они брели? Сколько капель росы могли собрать на рассвете с колючих кустиков? Сколько дней прятались от беспощадного солнца, выгребая слабыми руками ямки в песке? Тысячи этих ямок уже стали могилами. Над ними с хищным посвистом пролетал жгучий ветер, нагоняя не тучи, а стаи черного воронья.
Иссохшие тени брели дальше, страх толкал их в спину. Где-то впереди спасительный Евфрат, вода, сады, тень. Но пока бескрайняя пустыня, во́роны над головой и обманчивые миражи.
Обугленные лица детей обтянуты кожей. Скорбные глаза с тяжким недоумением смотрят вокруг: вот мир, в котором мы должны жить? А матери с потресканными губами хрипло, из последних сил говорят им о родных горах, о родном языке. Как вложить это в маленькое и уже такое измученное детское сердце?
Может статься, что забудут образ матери, имя матери, но нельзя, чтоб в этих песках была похоронена память народа.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
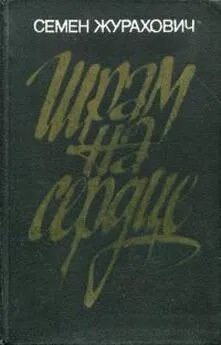

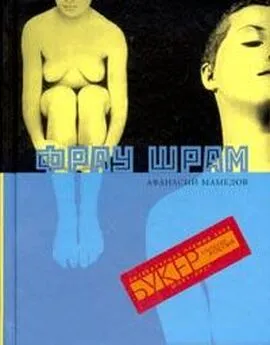
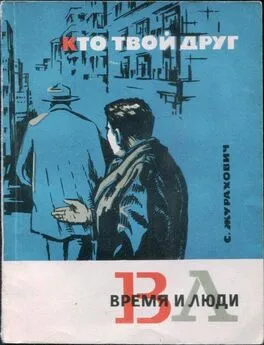
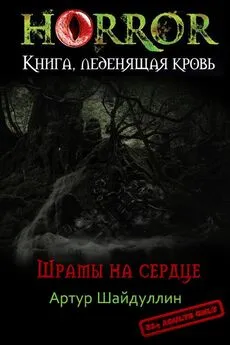
![Семен Журахович - Киевские ночи [Роман, повести, рассказы]](/books/1094134/semen-zhurahovich-kievskie-nochi-roman-povesti-ras.webp)