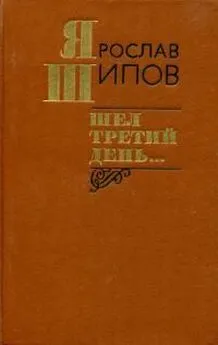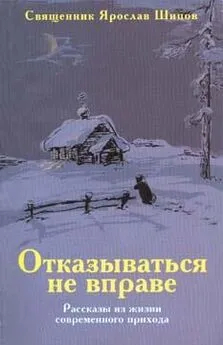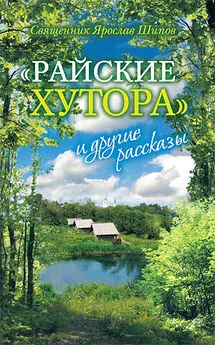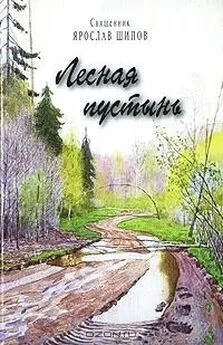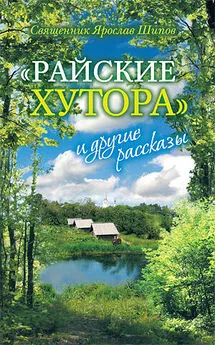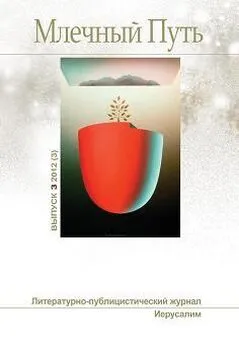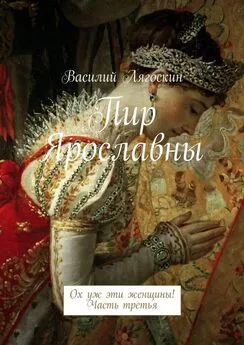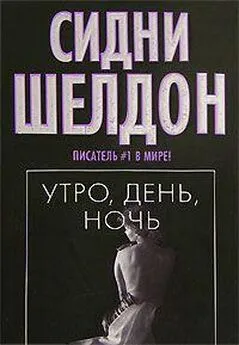Ярослав Шипов - Шел третий день...
- Название:Шел третий день...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ярослав Шипов - Шел третий день... краткое содержание
Шел третий день... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— А! — отдернул руку Иван Фомич.
Внимательно молчавшая очередь радостно зашевелилась, но тут же и стихла под строгим взглядом Вакорина, направившегося в кабинет.
Прибежал санитар: «Все сделано». Фельдшер, снимая усталость, ладонью провел по лицу, потом достал из верхнего кармана жилетки пенсне, завернутое в платок, и, протирая стекла, сказал:
— Не могу я сегодня…
Санитар понимающе кивнул.
— Так что давай лучше больных попринимаем.
— Как скажете.
— Зови.
VI
А теперь самое время поговорить о погоде. Или почти о ней. И не оттого, что более говорить не о чем — это, смею заверить, не так. И не с целью придать голубизну своей крови — это попросту невозможно, ведь генеалогия моя уходит корнями в такую глушь! В Солирецк, собственно. И даже дальше: в деревню Медведиху, что в тридцати верстах за Солирецком. Жители Медведихи, хотя и числились в известные времена микушинскими холопами, ни одного дворянина своими глазами в жизни и не видали. Путь от города до Медведихи проходит по таким гиблым местам, что кто-то из моих предков, выбравшись однажды в Солирецк, назад вернуться уже не сумел.
В настоящее время сам факт существования Медведихи под сомнением. Спросишь — ответят: деревня как будто и есть, но чтобы туда дорога была — невероятно. А потому деревни, может, и нет совсем.
Так вот: рассказывая о характере и лице города, я как-то отвлекся и не упомянул его нарядов.
По ночам, при свете настольной лампы перебираю тайное богатство свое… Четыре эпохи, из которых, говоря честно, три — не мои. Люди — живые и ушедшие: перевидал их великое множество, а оставил лишь нескольких — беда, право, с людьми. Но зато пейзажей больше, чем во всех музеях мира. Главное — картины и делать-то совершенно несложно! Пусть художник обидится, мол, краски несметно истратил, четырежды счищал и начинал по новой, пил неделю и однажды едва не повесился. И пусть фотограф говорит, что «Кодака» извел рублей на двести, пока отснял необходимый кадр. Все ерунда! Надо только заметить и посмотреть, и останется в памяти.
Скажем, зима…
Нет зимы лучше сибирской. И оттого, наверное, что сибиряк — человек вольный, смелый, лихой — уж больно хорош среди многометровых снежных навалов, тяжело повалившихся на его землю, деревья, дома. Он, черт, как будто расцветает под этой жуткой толщей снега. Играючи таскает ее на плечах, и что ему мороз! Ворот распахнут, грудь открыта, знай, хохочет себе, только иней с бороды осыпается. Зима ему как будто для забавы: баловство да игрища устраивать. Оттуда ведь и «Снежный городок» пошел…
Конечно, Сибирь красива всегда, и красотой, и каким-то неодолимым могуществом. Но лучший ее наряд — зимний день.
Весна уж больно хороша на Волге, когда река разливается в такую ширь, что приборы на спутниках запросто путают ее с Атлантическим океаном. Так вот, весною, глядя на Волгу, спокойно и беспредельно величественную, думаешь: еще поживу! Взошедшее солнце опускает на воду золотой меч, и говоришь: а что? И возьму этот меч! И развернусь! И понаделаю дел светлых и солнечных. И уверен, что это человеку под силу, — до того хороша Волга вешней порою.
Лето — лучший наряд средней России. Жарким июльским днем ляжешь в траву на курском или тамбовском пригорке, не боясь, что зашибет жарой, как бывает на юге; сквозь дремоту, навеянную пением жаворонка и шмелей, разглядишь уходящие перелески, речушку, меченную ивняком, тонкий ствол близкой березы, и ощущение святого единства с этой землей напоит тебя. И душу можешь пустить погулять в этой земле, не боясь, что заблудится или ее неправильно поймут. Здесь, даже умерев, с землей сольешься, прорастешь, дашь корни и побеги, превратишься в куст, в березку. Можно в елку, кедр, лиственницу — все равно. Здесь остро чувствуешь, что и за каждую дубину стоеросовую на своей земле ты будешь драться. Прекрасные места! Я хоть родом и не отсюда, но отчего-то именно в этих краях люблю летнюю пору.
А вот, скажем, осень, пора таинственная, призрачная, пора, в загадочности своей для русского человека сравнимая разве что со вселенной.
Ах, художник! Владея осенью — владеешь всем…
Так вот осень, если взять позднюю, холодную, с облетевшим листом, более всего впечатляет на землях низких, сырых, где-нибудь в новгородских или тверских лесах, в какой-нибудь прибитой дождями, вымокшей до черноты деревеньке с жалобным блеском плачущих окон — льются, льются слезы, и вот уже дорогу в грязь развезло, и лужи поблескивают горемычно. И во всей этой черноте жилья и земли, в тусклом слезливом блеске столько безысходности, столько щемящей тоски, что сердце сжимается, и такая боль давит горло, что жить неохота. Но вцепишься взглядом и не оторвешься, и так бы стоял под дождем и смотрел до конца своих дней.
Человек рождается с географией своей страны в душе, оттого-то любому клочку родной земли душа и отзовется. Но тогда сколько ж должно быть наворочено в душе русского человека!
Однако…
Солирецку более всего к лицу всякое поганое время, а уж февральские метели — просто ах! Жители тогда прячутся по домам, запираются на все замки и засовы и жмутся к печкам — так уютнее. А уют в городе всегда ценился превыше всего. Чистоты даже. И чем противнее погода, тем слаще спалось за четырехсаженными воротами, подпиравшими низкое февральское небо.
Так вот, в день после происшествия случилась метель. Засыпала она Крестовоздвиженскую свежим, колючим снегом, намела сугробы у ворот, стен, заборов, и будь это в другую историческую эпоху, город бы крепко затих, а тут… Нет, в общем-то гимназии бездействовали, церковные службы не отправлялись, на улицах — ни единой души, но по задворкам и клетям сосед встречался с соседом, судили-рядили, и получалось, что без чужого человека перевороту не быть: уж больно складно все само собою произошло — свой до такого бы не додумался. Эта верная мысль исходила не из проницательности граждан, а, к сожалению, всего лишь из боязни признать кого-то своего и, значит, свой уклад, себя — виновными. Еще бродил твердый слух, что Лузгунов в момент убийства штабс-капитана был занят розыском монастырского оружия совсем на другой улице и прибежал, услыхав выстрел.
Неладное это оружие!
Ездила по городу сестра Серафима, собирала наганы и рассказывала, что матушка игуменья, «премного осерчавши за глупость людскую, коей сила направлена была на бездумную шалость».
Из лесу в усадьбу Микушина ночью перешли тридцать человек для подготовки обоза.
Поручик, выполняя распоряжения приезжего, занимался организацией власти. Дело это, к неожиданности, складывалось затруднительно. Бывший городской голова наотрез отказался принимать какое-либо участие в новом правлении. Студент обещал подумать. Прочие кандидаты соглашались, но лишь на второстепенную роль.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: