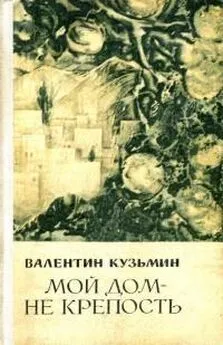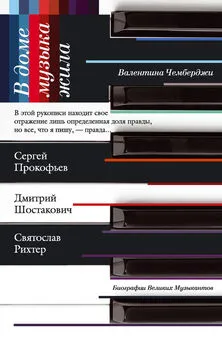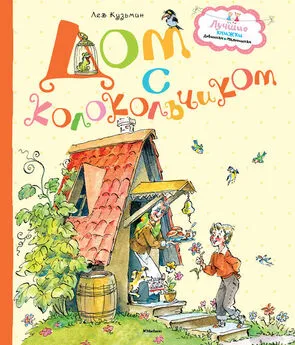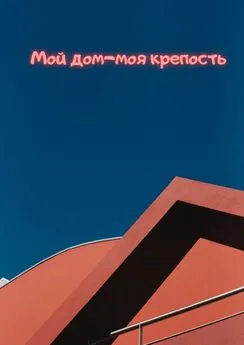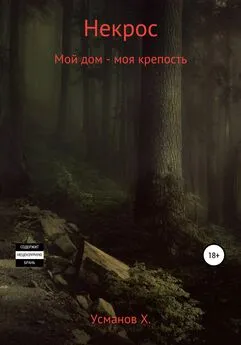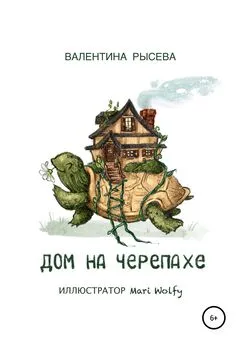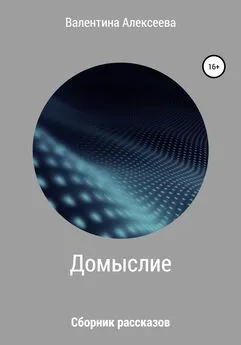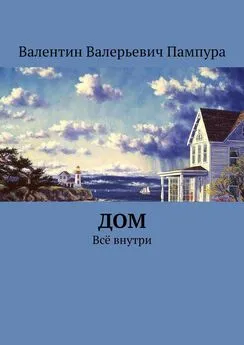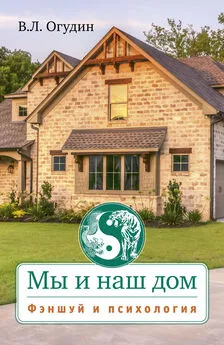Валентин Кузьмин - Мой дом — не крепость
- Название:Мой дом — не крепость
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Кузьмин - Мой дом — не крепость краткое содержание
«Мой дом — не крепость» — книга об «отцах и детях» нашей эпохи, о жильцах одного дома, связанных общей работой, семейными узами, дружбой, о знакомых и вовсе незнакомых друг другу людях, о взаимоотношениях между ними, подчас нелегких и сложных, о том, что мешает лучше понять близких, соседей, друзей и врагов, самого себя, открыть сердца и двери, в которые так трудно иногда достучаться.
Мой дом — не крепость - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
О том, что учителя — простые смертные со многими слабостями и грехами, мы начинаем догадываться еще в детстве, испытав первые обиды и разочарования. Но только тот, кто с головой окунется в кипящий школьный водоворот, может увидеть все в истинном свете.
Ларионов давным-давно, чуть ли не во времена своей студенческой практики, мысленно разделил учительство на несколько категорий.
В тех школах, где ему приходилось работать, как правило, бывали одно, много — два подлинных дарования. Люди разного возраста — от самого юного до преклонного, разных привычек и вкусов, они имели несколько общих черт, которые Евгений Константинович считал первостепенными в нелегком ремесле педагога.
Опыт — дело наживное. Не в нем суть. Нравственность и ум — само собой разумеется, без них вообще нет человека.
Главное — знания и любовь к детям.
Остальное — приложится.
Правда, это «остальное» год от года становилось все более емким, наполнялось для него широким, всеобъемлющим смыслом.
Чего только не должен был, по его мнению, иметь настоящий учитель!
Понимание детской психологии (и своей собственной, что еще важнее), воля и доброта, природное обаяние и артистизм, жизнелюбие и широта взглядов, голос, наконец, и умение говорить. И мало ли еще что!..
Только внешность ровно ничего не значила. Дети могут боготворить урода и возненавидеть красавца.
Надо ли говорить, что в жизни Ларионов не так уж часто встречал полное соответствие идеалу.
Но были такие. Ученики в них души не чаяли, люди ничтожные недолюбливали, причисляя к существам инакомыслящим и потому непонятным, явившимся едва ли не с другой планеты. Начальство их откровенно побаивалось.
И все же не ими поставлена и не на них держится школа!
Есть целая армия незаметных тружеников, которые не снимают звезд с неба, не кажутся добрыми волшебниками, словно родившимися среди задач, формул и сочинений, но все, что они делают, выходит надежно и крепко.
Именно они — становой хребет школы. Ее знания, честь и совесть.
И если когда-нибудь будет поставлен памятник самому нужному на земле человеку, пусть он будет учителю и пусть они знают, что это — им.
Тем, кто торчит в школе до второго пришествия, отгородившись еще в молодости ото всех соблазнов и удовольствий штабелями непроверенных тетрадок. Кто не теряет терпения, сидя в давно опустевшем классе и в сотый раз растолковывая какому-нибудь оболтусу прописную истину, которую тот пропустил мимо ушей на уроке.
Кто смирился с ненужной канцелярщиной, придуманной всякими умниками в разное время, с многочасовыми изнуряющими педсоветами, не имеющими ни начала ни конца, с тяжким бременем повинностей и «нагрузок», которые какие угодно организации, вплоть до треста по благоустройству города или межрайонной коконосушилки, считают своим долгом взвалить на школу.
Тем, для кого уроки и дети стали смыслом и содержанием жизни, кто раз и навсегда поставил призвание на первое место, а себя — на второе.
Им — этот памятник.
Никто не заслужил его так, как они.
Евгению Константиновичу, конечно, не приходили в голову подобные нескромные мысли, — о славе, о памятнике. Хотя бы и в фигуральном значении.
Он чувствовал себя прочно связанным с этими людьми. Их, как и его, не занимали житейские пустяки, им претили громкие слова и глубокомысленные сентенции. Работа и еще раз работа.
К таким «трудягам» Ларионов причислял и себя, хотя ни за что не признался бы в этом вслух.
Есть еще любопытная довольно распространенная разновидность. Представителей ее Евгений Константинович называл «урокодателями», что было в общем-то не очень точно, и относился к ним со всем презрением, на которое был способен.
Живется им легко, без особых хлопот.
Никаких дополнительных занятий с отстающими, вечерних дежурств на избирательном участке, переписей, инспекторских проверок по другим школам. Они ухитрялись так естественно, незаметно увиливать от любых неоплачиваемых трудов, что постепенно приучили окружающих принимать это как неизбежность.
И никаких споров и трений с директором и обоими завучами. Всегда — в любимчиках.
Лучше них никто не умеет подать себя в наиболее выгодном свете. Вовремя поддакнуть заезжему гостю с педагогического Олимпа, произнести заранее подготовленную дипломатичную речь на августовском совещании учителей, поднять «деловую» шумиху вокруг самого обыкновенного события, которое другой и не подумал бы поставить себе в заслугу.
Этой их способности могло бы позавидовать любое рекламное агентство. Случалось, о них писали, говорили по радио, показывали по телевидению. С ними многие соглашались, их мнением дорожили.
Учительское дело свое они знают неплохо, но исполняют его холодно, равнодушно, хотя и с немалою требовательностью, даже педантизмом по отношению к ученикам, которые их терпеть не могут, но стараются этого не показывать. Фальшь никогда не порождает ничего, кроме фальши.
Любая область человеческой деятельности не застрахована от плохих специалистов, бездарностей, не угадавших своего более скромного призвания, сверх всякой меры переоценивших собственные достоинства. Как учились они ни шатко ни валко, с трудом перебираясь с курса на курс, дотягивая до диплома на заочном, где почему-то всегда меньше спроса, — так и работают через пень-колоду. Бесцветно, уныло, безнадежно провинциально.
Где угодно с ними можно мириться, но только не в школе. А мириться приходится: куда же девать человека, пусть хотя бы дотянет до пенсии.
Сталкиваясь по работе с этой категорией учителей, обычно деликатный и сдержанный Евгений Константинович становился неузнаваемо жестким, язвительным и непримиримым. В таком состоянии он был способен даже на грубость, за которую потом казнил себя и приносил извинения.
Вот и все. На этом кончалась учительская. За пределами ее лежал класс. Притягательный, живой, любопытный, полный неистребимой жажды все понять и увидеть своими глазами. Милый преподавательскому сердцу Ларионова класс.
Нелегко с ним поладить, еще труднее стать ему другом, но тот, кто сумеет это, никогда не пожалеет, что он — учитель.
Класс — это дети.
Отдай им все, что имеешь, поделись тем, что тебе близко и дорого, ничего не оставляй про запас — и они твои навсегда!
Евгению Константиновичу хорошо знакомо было поразительное ощущение свободы и в то же время, слитности с аудиторией, которое возникало в лучшие дни его учительской жизни.
Сами собой рождаются нужные слова, интонации и жесты, послушные волшебству психики, загадочному механизму эмоций, который наэлектризовывает живым интересом тридцать пар сверкающих глаз, отрывает их от сегодняшней реальности и уносит в иной, удивительный мир. Все звучит и пульсирует, наполняется острым предчувствием открытия, и кажется, что приблизился к чуду, высокому, непостижимому.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: