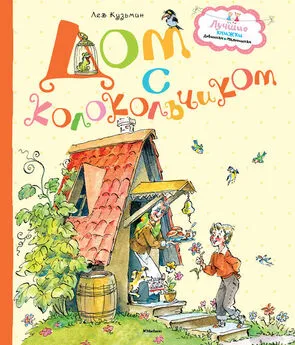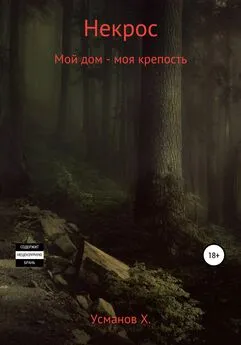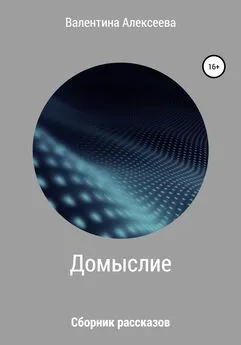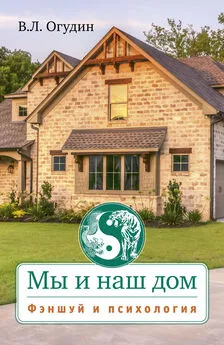Валентин Кузьмин - Мой дом — не крепость
- Название:Мой дом — не крепость
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Кузьмин - Мой дом — не крепость краткое содержание
«Мой дом — не крепость» — книга об «отцах и детях» нашей эпохи, о жильцах одного дома, связанных общей работой, семейными узами, дружбой, о знакомых и вовсе незнакомых друг другу людях, о взаимоотношениях между ними, подчас нелегких и сложных, о том, что мешает лучше понять близких, соседей, друзей и врагов, самого себя, открыть сердца и двери, в которые так трудно иногда достучаться.
Мой дом — не крепость - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В детстве я был очень любвеобилен. То есть это, конечно, не следует понимать буквально. Случилось так, что, благодаря моей скованности и неумению найти общий язык с мальчишками, мои одноклассницы в Растяпине особым девчачьим чутьем довольно скоро почувствовали во мне своего. Они не дрались и не грубиянили, от них не надо было ежеминутно ожидать подвоха, с ними я мог болтать о пустяках, думая совсем о другом, что вполне устраивало обе стороны.
Симпатии часто менялись. Сначала мне нравилась смуглокожая караимка Роза Креймер, среди зимы приехавшая с матерью из Крыма. Я сидел с ней за одной партой и исправлял ее диктанты: писала Роза ужасно безграмотно. Однажды она подарила мне толстую тетрадь в дорогом переплете с надписью на обороте обложки: «На памить от Розе Креймер».
Потом мы разругались, не помню из-за чего, и вниманием моим полностью завладела Инна Боляева, высокая угловатая девочка с круглым, типично русским лицом, которая до моего появления в третьем «Б» считалась лучшей ученицей в классе. Тут было обожание издали: Боляева держалась чуточку надменно, обособленно, и мои робкие шаги к сближению не имели успеха.
В пятом я обнаружил, что красивее и умнее всех Оля Агутис. Бледненькая, с острыми плечиками и тихим голосом, болезненная, она, видимо, вызвала мое расположение незаметностью, хрупкостью, в чем я усмотрел нечто романтически возвышенное, потому что наделял своих избранниц надуманными книжными качествами, которыми они вовсе не обладали.
Обожание мое кончилось, когда во время физкультуры мне пришлось взять ее за руку. Ладонь у нее была безвольная и мокрая, как будто я коснулся невыжатой теплой тряпки. Я был брезглив, и Оля Агутис перестала для меня существовать.
Может показаться странным, что при моей неуверенности в себе я тем не менее был достаточно смел для общения с девочками. В том-то и суть, что это было следствием неутоленной жажды понимания, которого я долго не находил у мальчишек. Девчонки — странные капризные существа другого пола, которых ребята побойчее дергали за косы, отпускали по их адресу скабрезные шуточки, а более предприимчивые даже назначали им свидания, предлагая «ходить» или «встречаться», в зависимости от того, какое жаргонное словечко становилось тогда модным, — в моих глазах всегда были олицетворением чего-то таинственно-прекрасного и притягательного.
Я часто мечтал. Лежа в темноте перед тем как заснуть, по обыкновению «сочинял», и героинями моих выдуманных снов наяву становились отныне не бесплотные красотки, взятые напрокат с журнальных обложек, а вполне реальные розы, инны, оли, которых я то отбивал у шайки бандитов, то оказывался с одной из них после кораблекрушения в утлой шлюпке посреди океана, то на пиратском судне, где ее безопасность и честь зависели от меня одного. Застрелив черномазого флибустьера с медной серьгой в ухе из его же собственного пистолета, я усмирял команду и поворачивал парусный бриг или фелюгу на другой галс.
Со слезами облегчения и благодарности она бросалась в мои объятия.
И все останавливалось, точно перегорала лампа в волшебном фонаре, на котором я «прокручивал» свои картинки. Дальше фантазия не срабатывала: ничего фривольного в моих мечтах не было.
Старинные русские романсы, — их приятным меццо вполголоса напевала мать, аккомпанируя себе на пианино, — переплетенные в зеленый сафьян тома «Пробуждения» с затейливыми виньетками и сладенькими феями в греческих туниках, две или три головки Грёза, висевшие на стенках нашей квартиры, неизменно мягкое, уважительное отношение отца к матери, даже когда он бывал нетрезв, что в последние годы ее жизни случалось нередко, — все это не могло не сыграть своей роли: из полузабытых дней детства я вынес чистый, незамутненный взгляд на всю слабую половину людского рода. Мишура и сантименты с годами стерлись, осталось лишь то, за что я по сей день добрым словом вспоминаю мать.
И сейчас во мне живет затаенное чувство гордости за ту часть моего «я», которая удержала меня в юности от поспешных, опрометчивых шагов, и нынче я могу сказать, что знал одну-единственную женщину в мире, и женщина эта — моя жена.
Старомодно? Пусть так.
В общем-то, конечно, не романсы и Грёз.
Книги. Им я обязан всем.
Вернувшись домой после уроков, хватал недочитанный накануне роман и, жуя бутерброд или утренний блинчик, погружался в чудесный блистающий мир Жаколио и Майн Рида.
Я любил и люблю до сих пор запах книг. От старых, с заплесневевшими корешками и пожелтевшими, слипшимися страницами, на которых время оставило свои следы в виде мелких коричневатых «веснушек», исходил чуть слышный душок прели и кожи и еще чего-то, лежалого, приторно-горьковатого, — так пахнет давным-давно высохший, напитавшийся пылью пучок полыни; новые источали возбуждающе острые, резковатые и вполне определенные запахи клея, типографской краски и гарта, прохладно-девственный аромат бумаги.
Когда приключенческие романы кончились, я нечаянно «открыл» для себя Тургенева, старого моего знакомого по «Запискам охотника», которого долго не хотел читать: проклятые диктовки отбили охоту к русской классике.
Теперь я чуть не плакал над «Вешними водами», испытывая томительную безысходную жалость к Джемме. Я бесповоротно в нее влюбился и ненавидел Санина за то, что он предпочел ей холодную злую красоту Марии Николавны. Где мне было тогда, в девять лет, понять, почему любовь Санина и Джеммы так непоправимо померкла.
Залпом, в несколько дней, я прочитал «Асю», «Первую любовь», «Клару Милич».
Потом пошли подряд — грустный, внимательный Чехов, многословный Данилевский, Мережковский, чьего «Христа и Антихриста» я не закончил, напуганный описанием дыбы, на которой Петр допрашивал Алексея.
Лев Толстой сначала показался мне тяжеловесным, и только «Детство. Отрочество. Юность» я одолел таким же галопом, как все остальное.
Мать сама выбирала для меня книги. Их было много у нас — на открытых полках, занимавших целую стену, в шкафу, в старом дедовском кофре, стоявшем в коридоре незапертым. На мой вопрос, который я задавал все чаще: «Мам, что почитать?» — она обычно отвечала: «Это тебе еще рано, не поймешь и будет скучно. Возьми вот это».
Оставаясь в доме один, я, конечно, заглядывал на запретные для меня полки, но опасение быть застигнутым врасплох за неподобающим чтением отравляло удовольствие. Я торопливо проскакивал целые страницы описаний, скользя по диалогам, и, толком не вникнув в смысл, запихивал книжку на место.
Джемма, Ольга Ильинская, Лабискви Лондона, а позднее и Наташа Ростова стали моими книжными кумирами, по ним я мерил других, по ним складывалось мое отношение к женщине и любви.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: