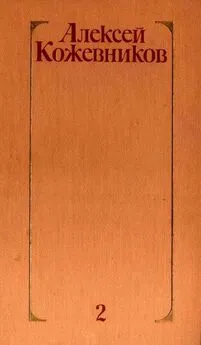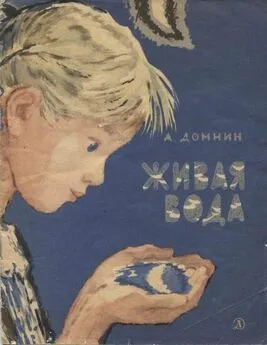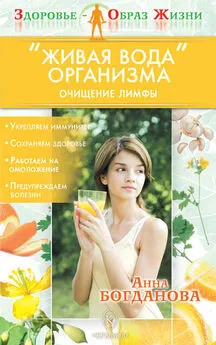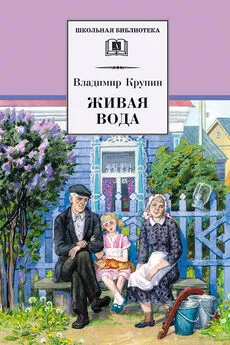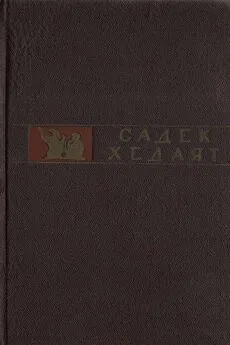Алексей Кожевников - Том 2. Брат океана. Живая вода
- Название:Том 2. Брат океана. Живая вода
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Кожевников - Том 2. Брат океана. Живая вода краткое содержание
Во второй том вошли известные у нас и за рубежом романы «Брат океана» и «Живая вода», за последний из них автор был удостоен Государственной премии СССР.
В романе «Брат океана» — о покорении Енисея и строительстве порта Игарка — показаны те изменения, которые внесла в жизнь народов Севера Октябрьская революция.
В романе «Живая вода» — поэтично и достоверно писатель открывает перед нами современный облик Хакассии, историю и традиции края древних скотоводов и земледельцев, новь, творимую советскими людьми.
Том 2. Брат океана. Живая вода - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Едут второй час, а кругом все то же: котловина, озерко, иногда пасущийся табун, гурт, отара, по горизонту — холмы. И везде — на высотах и в низинах, среди полей и пастбищ — курганы. Одни вроде тех холмиков, какие и теперь насыпают над могилами, другие в рост человека, есть выше, некоторые очень большие — трудно даже поверить, что сделали их люди, а не природа. Вокруг курганов — каменные ограды; у маленьких — это только поясок, чуть поднимающийся над землей, у больших — барьер с высокими столбами и плитами по краям.
Похоже, что заблудились и машина кружится на одном месте. Уже в третий раз серовато-песчаный суслик вскакивает на дыбки, удивленный до окаменения, секунду-две глядит на машину и вдруг становится невидимкой. Он так быстро ныряет в землю, что его нырка не заметишь: был суслик — и не стало.
На северном склоне одного из холмов Лутонин увидел корявую, поникшую, засыхающую с вершины березу.
— Эта откуда? — удивился он. — В таком просторе и выбрала же местечко: камень, север.
Километров через пять мелькнула березовая рощица в десяток деревьев, потом небольшой черемушник. Урсанах жаловался: раньше на полуночной стороне холмов стояли крупные леса, за его жизнь свели столько лесов, что если и дальше пойдет так, скоро негде будет вырубить кнутовище.
Снова поравнялись с курганом. Урсанах, помахивая на него шапкой, сказал:
— Граница. От этой могилы начинается конно-заводская земля.
— И кто же похоронен в таких могилах? — спросила Нина Григорьевна.
— Не знаю. Они тут давно, всю жизнь вижу.
— И до нас стояли тысячи лет, — сказал вдруг незнакомец и пересел поближе к спутникам. — Этот курган медно-бронзового века. А похоронен, наверно, крупный военачальник.
Слева показался табун; обеспокоенные гулом мотора кони убегали, высоко вскинув головы.
— И там еще табун, — сказала Нина Григорьевна, кивая вправо, где степь была испещрена множеством темных точек.
— Однако не табун, — посомневался Урсанах.
Когда подъехали ближе, вместо табуна оказался целый город курганов с тысячами камней.
— И везде под каждым курганом могила? — спросила незнакомца Нина Григорьевна.
— Да.
— Все-таки трудно поверить, — сказал Лутонин. — Каждому покойнику — курган да пяток — десяток плит… Их ведь надо выломать, обделать, перевезти. А в иной пудов сто, больше. При такой щедрости только и будешь делать, что хоронить. Для себя, для жизни ничего не успеешь.
— Успевали. Здесь не много еще, а есть долины, где и не проедешь из-за курганов. Эти долины так и называются — курганные, могильные. Курганный способ захоронения существовал в Хакассии тысячи лет — вот и накопилось.
— Зем-ли-ца… — вздохнула Нина Григорьевна.
— Она, земля наша, везде, вся такая, — живо отозвался незнакомец. — Мест, где не живал бы человек, не умирал, почти нет. Разница только в том, что в одних местах люди оставили по себе прочные памятники, а в других не оставили.
Темные, несколько выпуклые глаза Степана Прокофьевича стали еще выпуклей, он с недоверием остановил их на незнакомце и спросил:
— Разрешите узнать, какая ваша специальность?
— Археолог. Раскопки и… словом, всякая старина.
— Куда едете?
— На Белое.
— И что же есть там интересного?
— Здесь везде, вся наша степь — памятник. Тысячи курганов. На курганных плитах, на скалах по берегам рек, озер, у дорог — старинные рисунки, надписи. Мы называем их «писаницами». Остатки древней оросительной системы — «Чудские канавы». Развалины крепостей, городов. Да копните в любом месте, почти наверняка найдете старинную утварь, оружие.
— Верно, правильно, — поддакивал Урсанах. — Начнут пахать, рыть погреб — глядишь, нашли клад.
— Вас не удручает, что земля такая печальная? — сказала Нина Григорьевна.
— Печальная? — Археолог весь встрепенулся от удивления. — Чем? Почему?
— Что вся она — могила?
— А вы представьте ее, когда она еще не была могилой. Представьте, что вы первый человек, не знаете ни оружия, ни одежды, ни огня. Все кругом — страшная, опасная тайна. Нет, я не хочу туда, назад. Пусть она — могила, но в то же время и наш дом. Уютный, милый, отчий дом. Он столько служил людям, столько пережил вместе с ними, столько напоминает нам… В нем столько уже переделано, пересоздано человеком… Теперь это уже не стихия, не просто земля, камни и воды, а почти люди.
— Почему говоришь: «Наша степь, наш дом?» — спросил незнакомца Урсанах. — Здесь живешь?
— Да.
— В каком улусе?
— В городе.
— Как зовут?
— Аспат Конгаров.
— Чей сын? Молодых я мало знаю.
— Харáла Трубки.
— Харáла Трубки? А я — то, я, старый гусак, целый час сижу и не могу узнать, — сокрушенно и радостно заговорил старик. — Где же ты кочевал столько? И не бывал в Хакассии?
— Бывал.
— А ко мне не заехал!
— Все некогда.
— Столько лет — и все некогда. Нехорошо. Мы с твоим отцом большие друзья были.
— Я ведь тоже не узнаю тебя, — признался Конгаров.
— Кучендаев, — старик ткнул себя кулаком в грудь, — Урсанах. Меня позабыть не диво: мне давно пора лежать в могиле.
— Сколько же тебе лет? — спросил Лутонин.
— Не знаю. Считал-считал, дошел до семидесяти, там споткнулся и перестал считать.
— Давно споткнулся?
— Лет семь-восемь, девять, может, десять.
— А ты легко носишь свои годы.
Урсанах рассмеялся.
— Мне можно легко: мои годы конь возит.
— И еще наш табун!.. Наш гурт! — то и дело возглашал Урсанах, помахивая шапкой вправо, влево.
Он знал все табуны «в лицо» и, когда они появлялись на виду, называл их: жеребчики, молодые кобылки, матки. Кони были подобраны по возрасту и полу.
Едва заслышав шум мотора, они все, как по команде, в один миг взглядывали на машину и затем отбегали в испуге, красиво неся головы, прядая ушами и откинув хвосты. Пожилые отбегали метров на сто, на двести, молодняк — дальше. Отбежав, поворачивались к машине и следили за ней, пока не скроется и не затихнет.
— Вот зверь! Испугался, побежал, остановился, — и все у него выходит красиво, поглядеть любо-дорого, — восторгался Застреха.
Иногда дорогу загораживали гурты. Эти не боялись ни людей, ни машины; на них кричали, гудели, к ним подъезжали вплотную — и никакого толку: гурт брел все тем же сонным коровьим шагом, как на пастбище, не пропуская ни единой травинки. Тут Застреха выходил из себя от досады:
— Дрянь скотина, всю душу вытянет.
Наконец подвернулся удобный случай показать коней вблизи.
Ложком пробирался табун, — должно быть, хотел перевалить на другую сторону холмов; для этого надо пересечь дорогу.
Когда машина скатилась в ложок, Урсанах велел шоферу остановиться, а всем, кто был в кузове, прикрыться брезентом и примолкнуть.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: