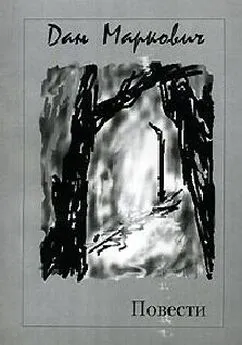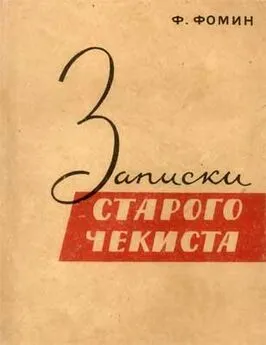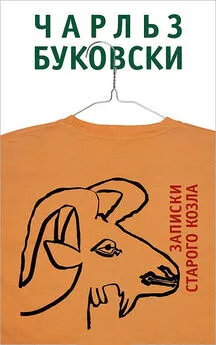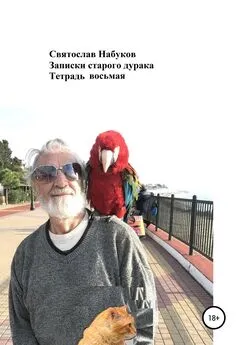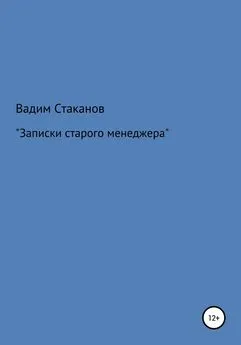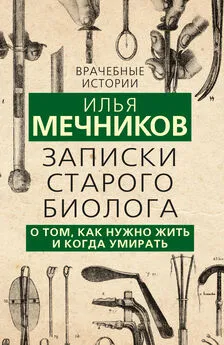Илья Шнейдер - Записки старого москвича
- Название:Записки старого москвича
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1970
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Шнейдер - Записки старого москвича краткое содержание
На фоне Москвы дореволюционной и послеоктябрьской проходят, либо в коротких эпизодах, либо в обширных воспоминаниях, А. В. Луначарский, Г. В. Чичерин, В. А. Аванесов, В. В. Маяковский, А. К. Глазунов, Ф. И. Шаляпин, К. С. Станиславский, Анна Павлова, Айседора Дункан, Е. В. Гельцер, А. В. Нежданова, А. Д. Вяльцева, Н. В. Плевицкая, Лина Кавальери, А. Н. Вертинский, Макс Линдер и другие.
Илья Шнейдер известен читателю как автор другой книги воспоминаний — «Встречи с Есениным», вышедшей в издательстве «Советская Россия» в 1966 году.
Записки старого москвича - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но тогда мы не знали даже и этого, и мемуары Бюлова еще писались в тиши его за́мка, куда не доносился гром пушек «тройственного согласия» и «тройственного союза», стрелявших друг в друга. Мы знали только официальные и непреложные версии.
Смотрела с плаката печальная лиловая женщина, светило солнце, тоненько верещали воробьи, хлопали двери булочных, выпуская запах горячего хлеба; куда-то прошли и исчезли черные старушки с просвирками. Поблескивали аптечные витрины, на которые надвигался своей тенью высокий грязный домина…
Я все еще держал газетный листок с двумя мрачными чертами, отныне перечеркнувшими прежнюю жизнь, и подсознательно, не понимая происходящего, не видя золотых мундиров «механиков» и людей с коронами на головах, проникал в сущность совершившегося по их воле…
В эти несколько минут Москва переместилась на сто километров в своем вращении с Землей, которая неслась навстречу революции и великим сдвигам в жизни человечества.
К вечеру начались манифестации. Из-за балюстрад «Эрмитажа» и «Аквариума» лилась оркестровая медь и текла звуками гимна по встревоженным улицам.
Нескончаемые людские потоки вливались в эти сады, где все зрелища были отменены и где у музыкантов военных оркестров распухли губы от беспрерывного исполнения гимна.
На другое утро торговцы газетами вмиг распродавали свои тяжелые пачки и устремлялись в типографии за новыми.
Все жадно искали в газетных колонках телеграмм из действующей армии, ожидая сообщений о победоносном вступлении русских войск в Германию. Но вскоре в экстренных выпусках телеграмм, издаваемых с коммерческими целями московскими газетами по нескольку раз в день, все с недоумением и горечью прочли, что германскими войсками заняты Петроков, Калиш, Ченстохов.
Началась война.
В газетах ежедневно печатались скорбные списки убитых на фронте офицеров, целые полосы журналов были заняты медальонами с фотографиями погибших. Горестно восприняла страна трагедию на Мазурских болотах Восточной Пруссии, где погибла армия генерала Самсонова, и по всей России холодящим шелестом пронеслось слово «мешок», получившее новое зловещее значение.
Потом тыл привык к войне, не очень значительно затронувшей его жизнь, начинавшую приобретать все больше и больше признаков «пира во время чумы», в котором, несмотря на запрещение алкогольных напитков, разгул и падение нравов становились все обширнее, заглушая страдания и горечь утрат в семьях призванных и погибших.
На улицах тыловых городов замелькали полувоенные щеголи из «Земского союза» и «Союза городов», организаций, снабжавших армию и обворовывавших фронт и тыл. Запестрели вывески благотворительных кафе «Чашка чаю», красные кресты лазаретов и зеленые кресты вновь созданной организации «помощи больным и раненым воинам», работавшей «под августейшим покровительством» великой княгини Елизаветы Федоровны, сестры царицы и вдовы казненного Каляевым государева дяди. Всюду устраивались благотворительные концерты, балы, кабаре, маскарады, лотереи, «ситцевые балы», где дамы, являя ради войны великую скромность, танцевали в ситцевых туалетах.
На первом таком гала-концерте, организованном для сбора средств на подарки воинам в Большом зале Российского благородного собрания, Мария Николаевна Ермолова, одетая в закрытое темное платье, читала стихи:
Нет больше радостей на сумрачной земле:
Веселый смех погас, и песни отзвучали…
Первые поезда, привезшие на Александровский вокзал раневых, встречали толпы москвичей, рвавшихся перенести носилки с лежавшими на них воинами к суровым трамвайным вагонам, оборудованным для этих перевозок. Люди стояли молчаливыми шпалерами вдоль всей Тверской, где тихо двигались трамваи с матовыми стеклами. Но уже вскоре никто не встречал санитарные поезда и не обращал внимания на осторожно двигавшиеся трамвайные вагоны. Публика ахала, что пирожные у Трамбле стали стоить гривенник вместо пяти копеек. Удивлялись введению карточек на сахар, которые за подписью московского градоначальника Шебеко печатались зеленой краской в типографии «Русского листка». Сотрудники этой газеты пачками уносили их домой. Неслыханных размеров достигла спекуляция, которой занялись сотни тысяч людей. Но из всего множества спекулянтов власти, и то скрепя сердце, вынуждены были арестовать лишь одного — крупного московского торговца, объявив о том в газетах и поразив этим Москву, плохо разбиравшуюся в причине ареста и отказывавшуюся видеть признаки уголовных деяний в прибыльных торговых операциях.
Жизнь шла своим чередом, вскипая то от побед Брусилова и Рузского, то затихая на момент, при отступлении от Перемышля, а потом вновь отплясывая тустеп и скользя в танго на благотворительных балах, звеня золотом в казино и бокалами в ночных вертепах.
Люди мечтали о том, чтобы казаки захватили в плен живьем германского кайзера Вильгельма, и довольствовались заметкой в «Вечерних известиях», озаглавленной: «Кайзер Вильгельм в Крутицких казармах», где были размещены германские и австрийские военнопленные, среди которых оказался немец по фамилии Кайзер и по имени Вильгельм…
За зеркальным оконным стеклом музыкального магазина немецкой фирмы «Юлий-Генрих Циммерман», помещавшейся во втором этаже дома на Кузнецком мосту, виднелся, блестя полировкой, большой концертный рояль. Вдруг он поехал на стекло, которое лопнуло со звоном, слившимся с рокотом и стоном струн рояля, неуклюже прыгнувшего своим громоздким черным телом из окна на мостовую… Начался московский «немецкий погром», инспирированный властями с целью разрядить атмосферу, сгустившуюся от поражений, которые терпели русские войска, предаваемые изменниками, продаваемые спекулянтами и обрекаемые на гибель бездарным командованием.
На погроме деятельно работали уголовные элементы, но недалеко от разбитой витрины ювелирного магазина на Петровке я встретил хорошо одетого и растерянно улыбавшегося господина, который шел с непокрытой головой, неся в руках свою шляпу, доверху наполненную мужскими золотыми часами.
А в синематографах вперемежку с военными картинами шли киноленты: «Отдай мне эту ночь…», «Осени мертвой цветы запоздалые…», «Ты ко мне не вернешься!..» и наконец: «… и угрожала, и ласкала, и опьяняла, и звала…»
Продукцию парфюмерных и кондитерских магазинов выпускали с портретом розового бельгийского короля Альберта, на которого нацепили не принадлежавшие ему лавры за героическую защиту Льежа и Намюра. В «Свободном театре» в Каретном ряду ежедневно шла посвященная Альберту пьеса «Король, закон и свобода», достигавшая кульминации в картине, где бельгийцы взрывают плотины и затопляют свою страну и вторгнувшиеся в нее немецкие войска.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: