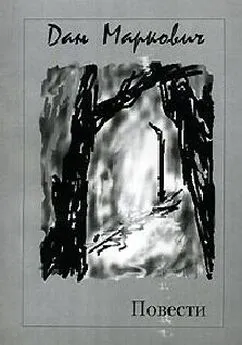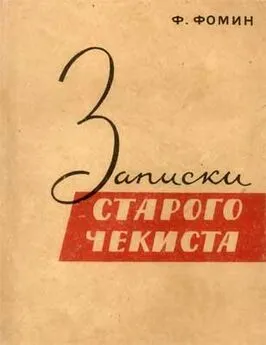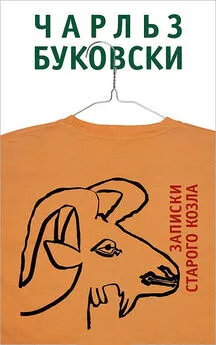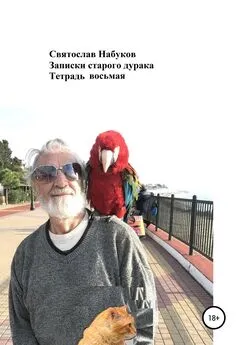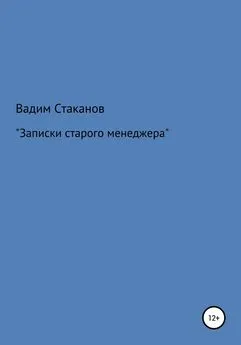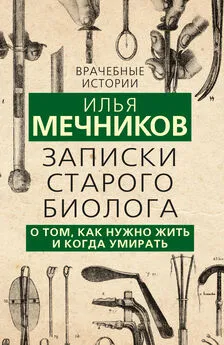Илья Шнейдер - Записки старого москвича
- Название:Записки старого москвича
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1970
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Шнейдер - Записки старого москвича краткое содержание
На фоне Москвы дореволюционной и послеоктябрьской проходят, либо в коротких эпизодах, либо в обширных воспоминаниях, А. В. Луначарский, Г. В. Чичерин, В. А. Аванесов, В. В. Маяковский, А. К. Глазунов, Ф. И. Шаляпин, К. С. Станиславский, Анна Павлова, Айседора Дункан, Е. В. Гельцер, А. В. Нежданова, А. Д. Вяльцева, Н. В. Плевицкая, Лина Кавальери, А. Н. Вертинский, Макс Линдер и другие.
Илья Шнейдер известен читателю как автор другой книги воспоминаний — «Встречи с Есениным», вышедшей в издательстве «Советская Россия» в 1966 году.
Записки старого москвича - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В Большом театре перед началом каждого спектакля томительно долго исполняли семь гимнов стран, воюющих против Германии и Австрии. Публика уныло прослушивала их стоя, оживляясь только во время исполнения бельгийского гимна…
В балете шли «Танцы народов». Под бравурную музыку марша Маццакаппе Екатерина Гельцер исполняла танец «Гений Бельгии», повторяя его три раза по требованию публики, наэлектризованной событиями на бельгийском фронте и необычайно экспрессивным исполнением Гельцер, создавшей из этого, казалось бы, ура-патриотического произведения танец, насыщенный пафосом борьбы и подлинной героикой.
Я как-то читал об исполнении знаменитой французской актрисой Рашель «Марсельезы» в дни революции в Париже и ясно представил себе, как Рашель выходила на сцену с большим трехцветным флагом на длинном древке, на которое она опиралась. Некрасивая, бледная, с жарко горящими глазами и сжатыми побелевшими от волнения губами, она почти шепотом, речитативом произносила обжигающие слова «Марсельезы»:
Allons enfanfs de la Patrie!.. [4] Вперед, дети Родины!..
—
и взрывалась призывом в рефрене:
Aus armes citoyens! [5] К оружию, граждане!
—
взрывая и накаленный замерший зал.
Я не раз видал Айседору Дункан в «Интернационале», в котором она достигала такой предельной выразительности, что зритель как бы видел бесчисленные легионы, двигавшиеся за призывными и устремленными вдаль жестами ее рук.
По впечатляющей силе и выразительности созданного Гельцер танца я не боюсь поставить ее рядок с «Марсельезой» Рашель и «Интернационалом» Айседоры Дункан.
В коротеньком хитоне цветов бельгийского флага, в блестящей каске с взветренной белой гроздью пера, с золотой фанфарой в руках, Гельцер языком танца создавала обобщенный поэтический образ воина-героя, дерзающего и упоенного ликующим чувством победы, образ, не имевший ничего общего с конфетным и парфюмерным образом короля Альберта. И публика это понимала.
Кроме «Танцев народов», балет ничем не откликнулся на войну. Все шло по-прежнему. И по-видимому, в дни грозных военных событий для премьеры балета не нашлось более актуальной темы, чем «Камо грядеши» Генриха Сенкевича или, вернее, — эпизода с его персонажами Эвникой и Петронием. К тому же Горский поставил «Эвнику и Петрония» на музыку Шопена! Мы, хотя и желторотые еще балетные критики, яростно протестовали против такого альянса Шопена с Сенкевичем. И, действительно, совсем неубедительно звучал довод Горского об общности национальной культуры польских композитора и писателя. После сравнительно небольшого балета «Эвника и Петроний» ставили еще и одноактный балет «Любовь быстра!» на музыку Грига. Это была чудесно сделанная Горским хореографическая миниатюра, где на фоне норвежских фиордов действовали живые люди, а не куклы из паноптикума, в которых часто превращались балетные персонажи. Это был кусочек подлинного реалистического искусства, в котором Горский совсем отошел от «классики» или, вернее — «псевдоклассики», пачек, пуантов, мармеладности кавалеров и невесомости балерин, поставив их на полную и даже неуклюжую ступню в «сабо» и создав удивительное для балетоманов, но волнующее танцевальное действо, будто соскользнувшее с полотен Дюрера и Брейгеля и как бы оживившее знаменитую картину последнего — «Танцующие крестьяне». Тем не менее выбор тематики для балетной премьеры из эпохи Рима и быта норвежских рыбаков был характерен для отрешенной от войны жизни тыла вообще и устремленности искусства балета в частности. Тыл жил сам по себе, а балет — тем более, замкнувшись в своих ограниченных, позолоченных рамках, с непременными свадьбами принцев и королей в финале спектаклей, со своими традициями, кастовой обособленностью, консерватизмом, которых не смогла сломить и бунтарская вылазка Горского.
Петербургская и московская балетные труппы пополняли свои составы исключительно теми кадрами, которые оканчивали оба столичных балетных училища. Проникнуть в императорские балетные труппы со стороны было невозможно. Такого случая еще не знали. А между тем давно расплодились балетные школы, выпускавшие готовых артистов балета, среди которых были действительно талантливые танцовщицы, и имена их стали уже хорошо известными широкой публике.
Мария д’Арто принадлежала к этой небольшой группе, и в газетах, рядом с ее именем, всегда стояли уже надоевшие три слова: «Популярная московская балерина». Но она не удовлетворилась своим передовым положением в так называемом «частном балете», мечтала о Большой сцене и пошла на дерзкий и неслыханный до тех пор шаг, подав заявление о приеме в балетную труппу московского Большого театра. Ее примеру последовала еще одна очень сильная танцовщица, также подавшая заявление о дебюте.
В Большом театре стали в тупик. Подобных прецедентов никогда еще не было. Правда, не было и оснований для отказа, но и принять посторонних в императорский балет не желали. И балетный синклит решил наказать дерзких, предоставив им не дебют, а испытание.
«Дерзкие», уверенные в своих силах, пошли и на это. При гробовом молчании высокой комиссии дебютантки легко выполняли труднейшие задания, успешно пробивая брешь в той угрюмой стене императорского балета, которой он отгородился от жизни. Надо было решать. И решили …еще раз ударить по самолюбию дебютанток, постановив принять их в …кордебалет. Это было спасительное решение, гарантировавшее и отказ оскорбленных дебютанток, достойных много лучшего, и — сохранявшее святая святых в неприкосновенности от вторжения посторонних.
К чести д’Арто надо сказать, что она не прибегнула к той мощной протекции, которой она могла бы воспользоваться: управляющим конторой московских императорских театров был тогда Н. К. фон Бооль, доводившийся ей родным дядей. Это был странно раздвоившийся человек: вне стен министерства двора и его конторы императорских театров — интересный собеседник, страстно любивший живопись и сам неплохой портретист. На службе же это был сухой человек, педант, с непоколебимым спокойствием, аристократическими манерами и ледяной вежливостью. А в общем, подобно некрасовскому «Чиновнику», —
Как человек разумной середины,
Он многого в сей жизни не желал…
Известен случай, происшедший у него с Ф. И. Шаляпиным, у которого часто возникали различные конфликты на почве его художественной непримиримости и принципиальности в искусстве. Во время репетиции на сцене Большого театра Шаляпин остановил оркестр, не соглашаясь с какими-то нюансами и трактовкой дирижера, и, вспылив, совсем бросил репетировать…
Срочно вызвали фон Бооля, который вошел на сцену своей неторопливой и полной достоинства походкой. Шаляпин бросился ему навстречу и горячо стал сетовать на недопонимание, рутину и низкую культуру оперных спектаклей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: