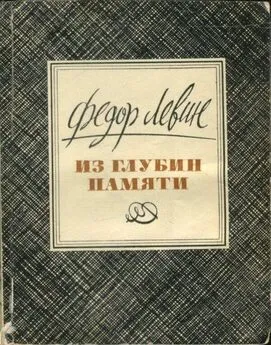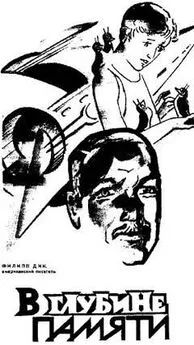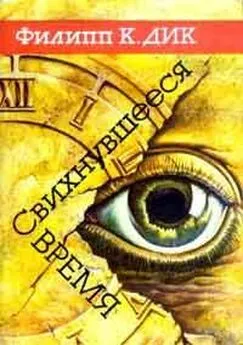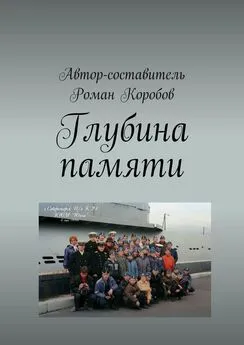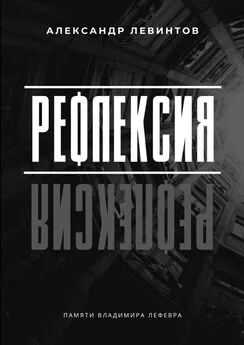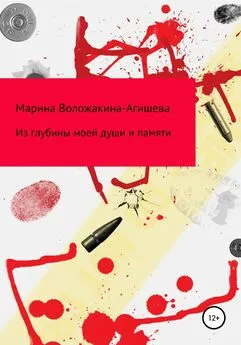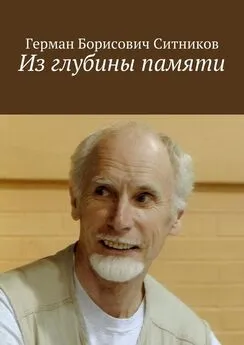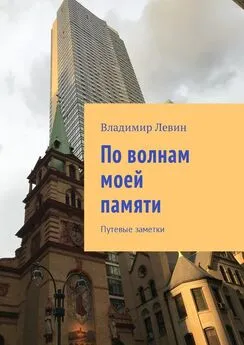Федор Левин - Из глубин памяти
- Название:Из глубин памяти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Федор Левин - Из глубин памяти краткое содержание
Из глубин памяти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Николай Дмитриевич ведал в то время Музеем Художественного театра, и, условившись о дне и часе, я пришел к нему. Взобравшись по крутой лестнице, так как лифта в этом старом доме не было, я невольно подумал: каково каждый день подыматься по ней старому человеку? Но, увидев Телешова, я понял, что он и меня заткнет за пояс. Высокий, худощавый, стройный, он обрадовал меня необычайной живостью движений, быстротой реакций, блеском глаз.
Он работал за большим столом в кабинете. Глаза разбегались от обилия книг, рукописей, разнообразных вещей, имевших прямое отношение к многолетней истории великого русского театра, жизни и творчеству его замечательных актеров. И прежде чем толковать о будущей книге, Николай Дмитриевич с чрезвычайным радушием показывал мне то одно, то другое с подробными пояснениями. И память его, и ясность ума меня изумляли. Конечно, весь он, с его бородой и усами, которые в сороковые годы редко кто носил, с его несколько старомодной речью старого московского интеллигента, принадлежал прошлому, вспоминал о прошлом, перебирал музейные вещи и старые книги и бумаги, но чувствовался в нем живой интерес к нынешнему дню.
Я попросил его, чтобы он сам предложил состав книги и подумал об авторе вступительной статьи. Он сказал, что к его сборнику написал предисловие С. Н. Дурылин, известный критик, театровед, литературовед, и это предисловие ему, Телешову, нравится.
— Пожалуйста, — согласился я, — но, быть может, Сергей Николаевич пожелает дополнить, расширить свою статью?
— Я спишусь с ним, — ответил Николай Дмитриевич.
В связи с составлением сборника, благополучно вышедшего в свет, хотя и не к самому юбилею, я еще несколько раз встречался с Николаем Дмитриевичем, но первое впечатление живости, радушия, ясности ума осталось у меня неизменным. Я постарался во всем пойти навстречу его пожеланиям, чтоб книга его порадовала, чтоб юбилей его не был ничем омрачен.
У меня сохранились два его письма, которыми хочу закончить краткие воспоминания о Николае Дмитриевиче. Первое из них интересно тем, что в нем изложены пожелания Телешова о составе сборника.
Вот оно:
«Уважаемый Федор Маркович.
Посылаю Вам вставку в рассказ «Жулик», а также рассказ «Ошибка барина» для 1-го раздела, если сочтете это приемлемым.
В раздел сказок прилагаю «Мутабор», который можно закончить вылетом мух или довести до «пробуждения».
На всякий случай прилагаю еще «Цветок папоротника», который мог бы идти и в разделе «905 года» или в сказках.
Вот и все мои предложения. Иных не будет.
Если б Вы согласились на предложенное, то, мне кажется, надо бы расположить в книге статьи так:
1. Повести и рассказы
Тень счастья, Сухая беда, Петух, Слепцы, Жулик, Верный друг, Ошибка барина, Доброе дело.
2. «1905 год»
Крамола. Начало конца.
3. «Переселенцы»
Лишний рот, Домой, Самоходы, Нужда Елка Митрича, Хлеб-соль.
4. Горная легенда, Живой камень, Крупеничка, Мутабор, Самое лучшее, Приятели, Зоренька, Цветок папоротника.
С. Н. Дурылину я послал его предисловие из книги и мою просьбу о новом предисловии. Надеюсь на днях получить обратно.
Теперь буду ждать Вашего решения. Приношу искреннюю благодарность за Ваше внимание.
С уважением и приветом.
Н. Телешов.
6. IV.48».
Письмо второе:
«Уважаемый Федор Маркович.
Сейчас прислал С. Н. Дурылин свою статью, которую немедленно направляю к Вам.
Я тоже простудился, и врач отсылает меня домой, долежать два дня. Когда просмотрите мои сказки, не найдете ли возможным позвонить мне домой (К7-16-50), за что буду очень благодарен.
Шлю Вам мой искренний привет и мое уважение
Н. Телешов.
9. IV.48».
Не правда ли, с какой удивительной скромностью и любезностью написаны эти небольшие письма литературного патриарха к своему редактору?
Автографы Бориса Пастернака
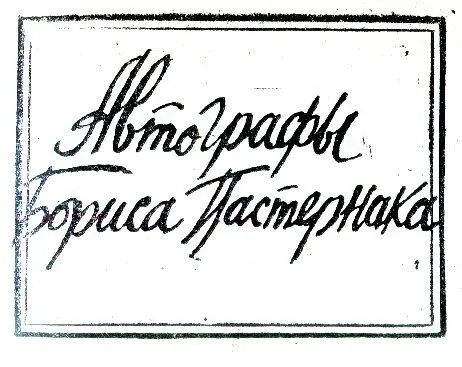 Еще тогда, когда я не был знаком с Борисом Леонидовичем Пастернаком, не видел его своими глазами, не слышал его, а только читал его стихи, я не столько понимал, сколько ощущал, что это очень большой поэт. В его ранних стихах, в произведениях двадцатых годов многое оставалось мне непонятным, отчасти из-за их необычайной усложненности и вместе с тем моей неподготовленности к их восприятию. К пониманию стихов Пастернака я приходил не сразу, не вдруг. Их надо вновь читать и перечитывать, подобно тому как необходимо не раз и не два прослушать новую симфонию, чтобы в кажущемся хаосе уловить тот порядок, которому подчиняются звуки, поймать тему, ее развитие и прийти наконец к высокому наслаждению. Большой художник, композитор, поэт, совершающий открытие, делающий новый шаг в искусстве, зачастую долго не получает признания, и люди, привыкшие к определенным, устоявшимся, ставшим классическими формам и содержанию, подвергают новатора остракизму и осмеянию. Так было с французскими импрессионистами, с нашим Мусоргским, с Маяковским, так еще недавно нападали на Андрея Вознесенского, так было с Пастернаком. Они входили в искусство со своей новой «точкой отсчета».
Еще тогда, когда я не был знаком с Борисом Леонидовичем Пастернаком, не видел его своими глазами, не слышал его, а только читал его стихи, я не столько понимал, сколько ощущал, что это очень большой поэт. В его ранних стихах, в произведениях двадцатых годов многое оставалось мне непонятным, отчасти из-за их необычайной усложненности и вместе с тем моей неподготовленности к их восприятию. К пониманию стихов Пастернака я приходил не сразу, не вдруг. Их надо вновь читать и перечитывать, подобно тому как необходимо не раз и не два прослушать новую симфонию, чтобы в кажущемся хаосе уловить тот порядок, которому подчиняются звуки, поймать тему, ее развитие и прийти наконец к высокому наслаждению. Большой художник, композитор, поэт, совершающий открытие, делающий новый шаг в искусстве, зачастую долго не получает признания, и люди, привыкшие к определенным, устоявшимся, ставшим классическими формам и содержанию, подвергают новатора остракизму и осмеянию. Так было с французскими импрессионистами, с нашим Мусоргским, с Маяковским, так еще недавно нападали на Андрея Вознесенского, так было с Пастернаком. Они входили в искусство со своей новой «точкой отсчета».
Правда, некая «вина» за неприятие лежит и на новаторах. Не сразу приходят они от «бунта» против традиций, от «взрыва» прежних канонов к той зрелости, которая сказывается в ясности и в «сложнейшей простоте». Ведь об этом потом писал и Пастернак:
В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.
Но, становясь порою в тупик перед необычайными метафорами стихов Пастернака, перед почти ребусными ассоциациями его мысли и чувств, в потоке которых ощущались провалы, исчезнувшие или отброшенные связи, переходы, ступени, я всегда ощущал волшебную лирическую силу, музыкальный напор, душевное волнение. Стихи его напоминали мне реку, то спокойно текущую, то стремительно летящую, порожистую, — из-под воды выходят наружу крупные валуны, а большая часть каменного нагроможденья скрыта и угадывается лишь по пенным всплескам и гребням волн.
Склонный к логическому, последовательному мышлению и воспитанный в его духе всей своей жизнью и работой, я ощущал как бы некую «несоизмеримость» свою с душевным миром поэта.
И такими же были мои впечатления, когда я впервые увидел Бориса Леонидовича и услышал его выступление с трибуны. Он был человеком из какого-то иного мира. Бросающаяся в глаза, сразу запоминающаяся внешность — удлиненное лицо, глаза, отражающие непрестанную работу мысли и беспокойную жизнь чувства, — внешность, о которой, кажется, Анна Ахматова удивительно сказала, что Пастернак похож одновременно и на араба и на его скакуна. Он говорил на одном из многочисленных тогда совещаний в Союзе писателей высоким, стонущим носовым голосом, с придыханиями, с легкими запинками, подыскивая тут же какие-то свои особые слова. Стиль его речи, соответствовавший вполне складу его духовного мира, был настолько непохож на речи всех остальных ораторов, настолько своеобразен, что казалось, будто он говорит на другом языке. Речь его показалась мне сперва алогичной, говорил он как бы вовсе и не на тему. И лишь потом, вдумываясь, я увидел, что в речи этой была своя особая логика, но, чтобы уловить ее, надо было как-то переместиться, изменить ракурс, в котором рассматривается предмет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: