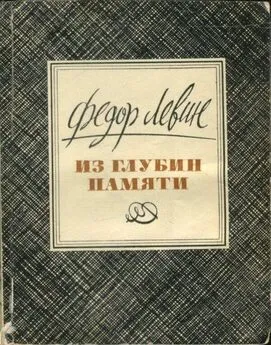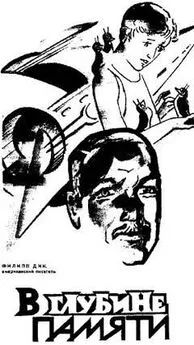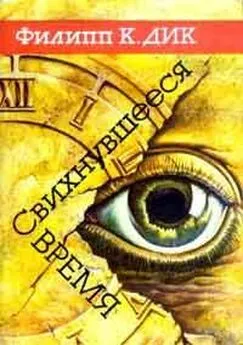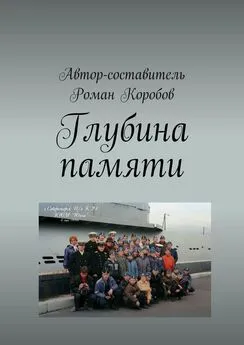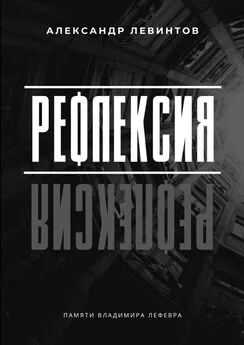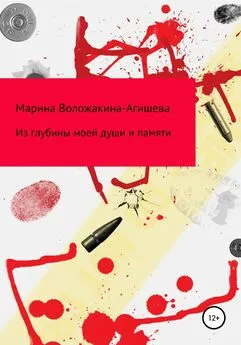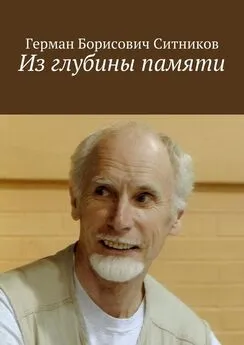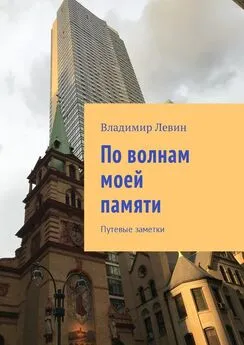Федор Левин - Из глубин памяти
- Название:Из глубин памяти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Федор Левин - Из глубин памяти краткое содержание
Из глубин памяти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В самом начале 1924 года я уехал из Петрограда, и наше знакомство надолго прервалось. На несколько лет я почти совсем отошел от литературной деятельности, а Геннадий выпускал книжку за книжкой стихов и рассказов, хотя успел и окончить университет, и поучиться в Государственном институте истории искусств в Ленинграде, и отслужить в Красной Армии, побывать и красноармейцем, и отделенным командиром, и командиром взвода в автомобильно-мотоциклетном полку и окончить бронетанковую школу. Чего только он не успел! И наконец, приобрел всесоюзную и даже международную известность своей повестью «Падение Кимас-озера», с одобрением встреченной Горьким, потом романом «Мы вернемся, Суоми!». С тех пор одной из главнейших областей его работы стали Карелия и Финляндия, а потом и весь Скандинавский полуостров — Швеция и Норвегия, а затем еще и Дания. В сущности, он стал советским литературным «полпредом» в этих странах, ездил туда, изучил их историю и современную жизнь, познакомился и сдружился с их прогрессивными деятелями, выпустил несколько книг путевых очерков, «открыв» эти страны, их народы и культуру для советского читателя.
Мы снова встретились в Москве в дни Первого съезда советских писателей, а в 1936 году он переехал из Ленинграда в Москву, и тут уже наше знакомство восстановилось, продолжалось и перешло в дружеские отношения. Литературные успехи и известность нисколько не изменили Фиша, он казался тем же самым, каким я знал его за двенадцать лет до этого. Он так же, как бы между прочим, обнаруживал свой разнообразные познания, великолепную память. Скромно появлялся он в редакции «Литературного обозрения», брал книжки и писал на них рецензии. Когда выходили его новые книги, он как бы между прочим, без всякого тщеславия приносил и дарил их с добрыми надписями.
Здесь надо сказать, что Фиш был по преимуществу документалистом, его книги строились на обработке собранного им самим фактического материала, который он черпал отовсюду: из архивов, встреч и бесед с людьми, поездок, исторических, экономических и других научных работ. Хорошо знавшие Горького и бывавшие у него люди говорят, что Горький рассказывал необычайно интересно, порой интереснее, чем это потом получалось на бумаге. Замечу, что Геннадий Фиш также превосходно рассказывал, умел выкапывать отовсюду любопытнейшие факты. Помню, как он рассказывал о своей поездке с фронтовой делегацией в тыл и о том, как разъезжал по фронту с одной из рабочих делегаций. Как много интересного успел он увидеть в этой поездке! В рассказываемых им драматических или забавных историях возникали живописные люди, и мне, человеку малонаблюдательному, всегда было удивительно, почему мне такие люди не встречаются. Я только потом сообразил, что они попадаются и на моем пути, но я не умею видеть так, как Геннадий. Кроме того, это ведь особое искусство — «разговорить» человека, чтоб он раскрылся перед собеседником. Этим искусством Фиш превосходно владел.
С началом войны я в первые же дни отправился на Западный фронт, потом оказался на Карельском и никак не предполагал, что снова встречусь с Фишем. А встретился, и притом неожиданно, при особенных обстоятельствах. После некоторых моих бедствий, о коих здесь нет смысла рассказывать, глубокой осенью 1942 года, в канун ноябрьских дней, пришел я в политуправление Карельского фронта, неожиданно увидел здесь на посту дежурного старого московского знакомого — критика Сергея Кирьянова, и, пока я говорил с заместителем начальника политуправления подполковником Ткаченко, тепло меня встретившим, Кирьянов позвонил в редакцию фронтовой газеты «В бой за родину», работником которой я был. Я вышел от Ткаченко, и оказалось, что из редакции за мной приехала «легковушка». В Беломорске в это время уже почти нет дня. Я вышел из политуправления в полном мраке — ни луны, ни единой звезды на небе, а в городе затемнение, — почти ощупью отыскал машину, сел на переднее сиденье, и вдруг сзади раздался голос Фиша, которого я не думал не гадал здесь увидеть. Трудно передать мою радость. После того я много раз бывал в доме, где он жил с женой Татьяной Аркадьевной Смолянской и дочкой Наташей. Приезжая из Кеми, из политотдела 26-й армии, я не раз ночевал у Геннадия, вел с ним бесконечные разговоры, он читал на память стихи о войне, Редьярда Киплинга. Александра Блока. Помню, что в то время у него оказалась верстка романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол», и я с огромным интересом проглотил этот роман за два дня. Вообще мы тогда читали преимущественно о войне, и прежде всего «Войну и мир».
Фиш неутомимо работал, встречался с карельскими партизанами, с фронтовиками, писал очерки о них, из которых потом выросли и книги. Он был хорошо знаком с партийными и советскими руководителями Карелии, находившимися в те годы в Беломорске, бывал у них, встречался с героем «Кимас-озера» Антикайненом, но никогда не пользовался какими-либо привилегиями и скидками, жил как и другие военные журналисты. Иногда я видел его печальным, он беспокоился о сыне, Радии, воевавшем на одном из участков Карельского фронта. Ему удалось с ним повидаться, и от тех дней у меня сохранилась подаренная Геннадием фотография, на которой он снят вместе с сыном, оба в военной форме, Радий, как и полагается, глядит беззаботно и весело, Геннадий и гордо, и вместе с тем как-то озабоченно смотрит на него.
Наши встречи снова оборвались, когда после выхода Финляндии из войны я с 26-й армией был направлен на 3-й Украинский фронт, а Геннадий некоторое время работал при контрольной комиссии в Хельсинки.
Вновь свиделись мы уже после демобилизации, я редактировал одну из его книг о карельских партизанах.
В последние годы он выпустил, как я уже отметил, отличные книги о Скандинавии. В связи со своим изучением Финляндии Фиш написал серьезную книгу о пребывании В. И. Ленина в этой стране в очень трудное время, о котором свидетельствует само название книги: «После июля в семнадцатом». Она стала его последней крупной работой.
Мы виделись редко, главным образом в Центральном Доме литераторов, на собраниях, и не раз намечали посидеть вместе, как бывало, — и все не удавалось. То серьезно болела Татьяна Аркадьевна, потом у Геннадия случился инфаркт миокарда, и я, перенесший уже два инфаркта, по телефону делился с Татьяной Аркадьевной своим «опытом» лечения в Институте кардиологии и рассказывал о своем режиме после возвращения домой. Геннадий поправился, и я снова встречал его, как всегда, душевно расположенного ко мне, деловитого, скромного — словом, такого, каким привык его видеть.
В 1971 году я приехал по делу к нему домой, он показал мне громадный шкаф с изданиями своих книг на русском языке и в переводах, выпущенных в СССР и за рубежом. Но толком поговорить нам не довелось, мы оба спешили, звонил телефон, пришли какие-то люди. Татьяну Аркадьевну все время отрывали от разговора, и мы распрощались.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: