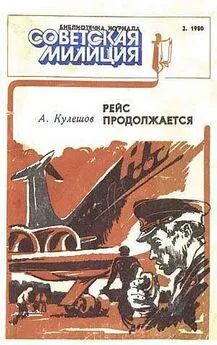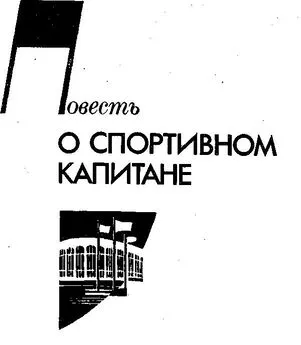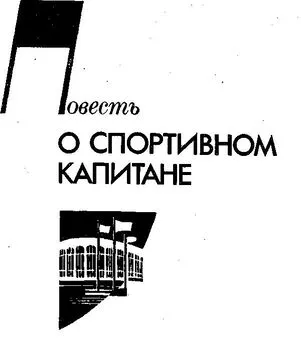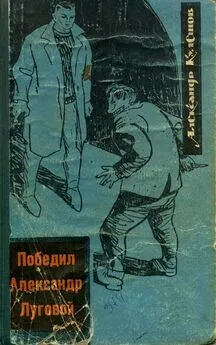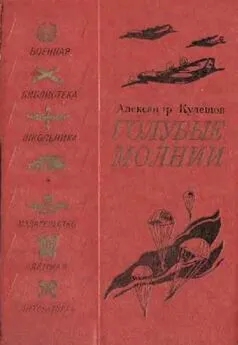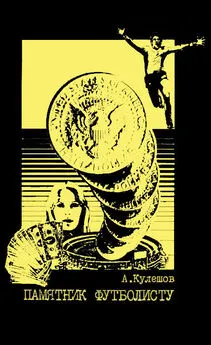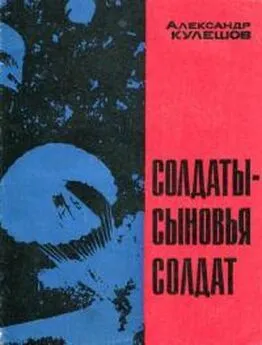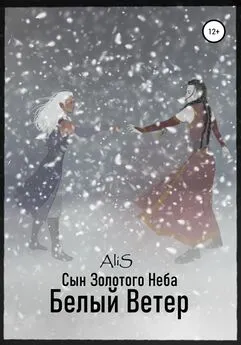Александр Кулешов - Белый ветер
- Название:Белый ветер
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Воениздат
- Год:1977
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Кулешов - Белый ветер краткое содержание
Белый ветер - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Саперы, — говорил Скворцов, — яснее всех почувствовали, когда в войне наступил перелом: до этого больше ставили мины, а после, наоборот, вынимали…»
Он спустился в просторный подвал. Здесь, у стены, за котлом, стояли его люди. Немцы не успели даже замаскировать свежую кладку в стене.
Остальная часть дома была проверена. Ничего нигде не обнаружили — то ли немцы торопились, то ли, вопреки обычной манере минировать в нескольких местах, ограничились одним, так или иначе, заряд был только за этой стеной.
Скворцов отправил всех людей. Они остались вдвоем — сержант и он. Приложив ухо к холодным кирпичам, капитан прислушивался к негромкому мерному тиканью.
Когда тиканье прекратится? Этого он может и не узнать, потому что в то же мгновение остановится и его жизнь. Если только сам не сумеет остановить часы раньше назначенного срока взрыва.
Взрыв мог произойти через час, через десять минут, через минуту. Надо было просто не думать об этом, а делать свое дело спокойно, быстро и точно.
Скворцов знал, как волнуются его товарищи там, в безопасном отдалении, куда больше, чем он сам. Ему тоже не раз приходилось волноваться за других, вытирать пот со лба, бормотать про себя какие-то слова, напряженно разглядывать здание или склад, где вот так же, как он сейчас, работали его товарищи, и с облегчением вздыхать, когда жужжал телефон и знакомый голос весело докладывал: «Порядок, товарищ капитан!»
Бывало и по-другому. Взвивался черный столб, грохотал близкий взрыв, рассыпался окрест дождь скрученных балок, камней, земли.
Значит, еще один сапер «сходил с поезда», не попрощавшись, оставался у обочины дороги, по которой двигались они теперь к победе.
Телефон рядом молчал.
Никто никогда не имел права отрывать минеров от работы. То был телефон односторонней связи. Лишь они сами снимут трубку, когда закончат, чтобы бодро прохрипеть в нее: «Порядок!»
Сколько же еще будут тикать часы? Час, десять минут, минуту?
Убраны кирпичи, тиканье стало громче, вот и мина, ящики с толом, уходящие во тьму камеры, а вот и взрывной механизм, маленькая коробочка, в которой заперта смерть…
Они долго, бесконечно долго исследовали все кругом — нет ли ловушек. И наконец извлекли механизм. Скворцов посмотрел на шкалу, отвел стрелку. И усмехнулся: до взрыва оставалось двадцать четыре часа.
— Ох и шуток было потом, — вспоминает Скворцов. — Задразнили меня тогда товарищи. «Чего торопился, — говорят, — мог и выспаться — будильник небось рядом, не проспал бы». Так что много, товарищи курсанты, было у нас и смешных моментов…
Но Левашов ничего смешного в рассказе полковника Скворцова не нашел. И задумался об этих людях, которые весело подтрунивали друг над другом, потому что смерть дала кому-то из них отсрочку, немного большую, чем предполагали.
А сам-то он сумел бы, приведись, быть таким же спокойным и хладнокровным, как Скворцов? Ведь храбрости в училище не учат — нет такого специального предмета. Или все же учат? Вот рассказ Скворцова не урок ли мужества? Да не только рассказ, а вся жизнь полковника тому яркий пример.
Левашов вспомнил, как однажды в военкомате их собрали на беседу с ветераном. Пришел толстый добродушный дядя в соломенной шляпе, в косоворотке, в плохо сшитом, видавшем виды пиджаке. И прямо скажем, не оратор, совсем не оратор. Ребята иронически поглядывали на него, перешептывались, подталкивая друг друга локтями, когда гость путался в словах и ударениях.
Припомнилось Левашову, как постепенно, по мере рассказа ветерана, наступала тишина, как смолкли Смешки, с каким сначала любопытством, а потом восхищением да, пожалуй, и завистью смотрели допризывники на этого человека, теперь уже не толстого и смешного в своей старой соломенной шляпе, а ловкого, сильного, бесстрашного, с автоматом в руках, крадущегося по немецким тылам.
Двадцать взятых «языков», в том числе три полковника, десятки поисков, засад, разведывательных заданий, два ордена Красного Знамени, три ордена Славы, пять ранений, долгий путь от Подмосковья до Берлина — вот какой была биография этого человека… И когда он закончил свой бесхитростный рассказ, они долго хлопали в ладоши. Потом спорили — сумели бы сами так же вот.
— Таким надо родиться, — вздыхал какой-то хилый паренек, которого вообще непонятно как могли призвать в армию.
— «Солдатами не рождаются» — знаешь такую истину? — демонстрировал ему свою эрудицию Розанов. — Надо будет, все такими станем.
— Э, нет! — вступил в спор другой допризывник. — Есть народы, воины от природы, мы, например, русский народ. Немцы тоже, в общем, первоклассные вояки, или японцы… А скажем, испанцы, вспомни их «голубую дивизию», только драпали…
— Да брось ты! — огрызался Цуриков. — Как дали гитлеровцам по башке, сразу задрапали, и, между прочим, драпали когда-то русские деникинцы, а испанцы испанцам рознь. Плохо, что ли, республиканцы сражались? А? То-то! А в Латинской Америке кубинские «барбудос» здорово воевали, когда своего диктатора, этого… как его, сбрасывали… — Но имени диктатора Цуриков не помнил и закончил нравоучительно: — Важно, за что воевать! Если есть за что, каждый воякой станет!
Левашов потом не раз задумывался: откуда берется храбрость — от уверенности или, наоборот, от отчаяния. Потому ли, что сражаешься за святое дело, или потому, что выполняешь приказ, каким бы он ни был? А быть может, от характера? Есть же отчаянные ребята!
Жаль, вот нет такого предмета…
Разумеется, кроме подрывного дела изучали и многое другое: инженерное обеспечение боя, инженерные машины, фортификацию, мостовые конструкции, топографию, двигатели внутреннего сгорания.
Розанов преуспел еще и в английском языке; он отдавал ему все свободное время и пользовался особым расположением преподавателя. У Цурикова неожиданно обнаружились литературные способности. Сначала он писал в боевые листки и стенгазету, потом сам стал ее редактором. А однажды небрежно показал друзьям окружную газету, в которой была напечатана его заметка.
Иногда занятия проводились за городом — в учебном центре. Там наводили переправы, рыли траншеи, строили фортификационные сооружения…
Потом, когда они занимались на последнем курсе, друзья сняли комнату в городе. Комната была большой, светлой и чистой. Хозяйка, аккуратная, уютная старушка, потерявшая в войну сыновей, привечала теперь любого парня в военной форме. Она замучила ребят бесконечными угощениями: варениками с вишнями, капустными и яблочными пирогами, уж не говоря о соленьях, мочениях и вареньях. Было как-то неловко все время угощаться задарма (деньги старушка категорически брать не хотела, даже обижалась), а отказаться не хватало сил, до того все было вкусным. И они ели, опустив глаза в тарелки, а подняв голову, не раз ловили материнский взгляд, замечали слезу на морщинистой щеке…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: