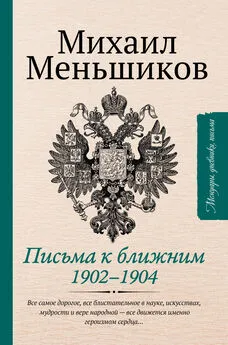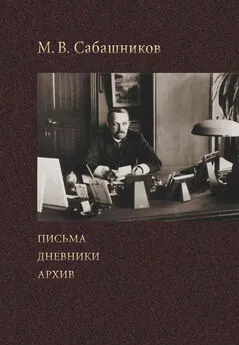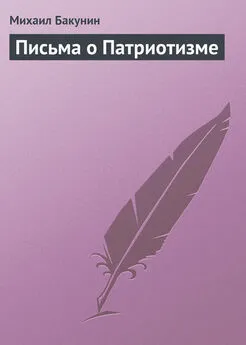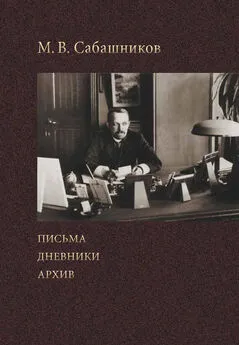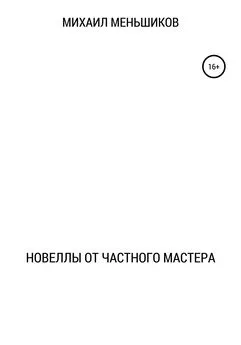Михаил Меньшиков - Письма к ближним
- Название:Письма к ближним
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-145459-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Меньшиков - Письма к ближним краткое содержание
Финансовая политика России, катастрофа употребления спиртного в стране, учеба в земских школах, университетах, двухсотлетие Санкт-Петербурга, государственное страхование, благотворительность, русская деревня, аристократия и народ, Русско-японская война – темы, которые раскрывал М.О. Меньшиков. А еще он писал о своих известных современниках – Л.Н. Толстом, Д.И. Менделееве, В.В. Верещагине, А.П. Чехове и многих других.
Искусный и самобытный голос автора для его читателей был тем незаменимым компасом, который делал их жизнь осмысленной, отвечая на жизненные вопросы, что волновали общество.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Письма к ближним - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В дни великого юбилея хочется вспомнить заслуги и тех сословий, которые народ выдвигал на форпосты культурной борьбы. Интеллигенция, духовенство и дворянство, при всех пороках своих, наследственных и заимствованных от Запада, все-таки в лице лучших сынов поработали для России и кое-что сделали. Не в русском обычае хвастовство, мы страдаем скорее чрезмерною скромностью, и может быть, только это излишнее недоверие к своим силам связывает русский гений. Но, конечно, не один Петр с приближенными пошел к общечеловеческой цивилизации, несомненно, весь народ тянулся к ней же. Никакая власть не могла бы совершить столь грандиозного переворота, если бы не была поддержана стихией народной. Удивляются гению Петра, но должна быть оценена в эти дни и высокая интеллектуальность всего народа русского, его склонность необыкновенно быстро понимать и усваивать все, что создал древний и новый мир, – способность чудная в лице Пушкина и отмеченная Достоевским как особый, исключительный дар русского человека, дар «всечеловечества». Занимая срединное положение между материками, религиями и цивилизациями, подвергаясь влияниям самым разнообразным, русское племя искони отличалось способностью своего рода всеведения, вмещения в себя всякой души, всякого сердца, всяких надежд и чаяний. Отсюда русская жалость и сочувствие ко всему – черта женственности, в которой нас упрекал Бисмарк. Мы никогда не были исключительными. Народ наш терпимее всех на свете, он братается со всеми народностями своей огромной страны и покоряет их не столько оружием, сколько добродушием. Покоряет, правда, не всегда. Окрестные племена отличаются несравненно более выработанной индивидуальностью, они эгоистичны и часто нерастворимы, как камни для мягкой влаги. Но все, что растворимо в них, все общечеловеческое мы усваивали и претворяли в себе. Не погибли, а возродились в мягком славянском облике многие народности готского, финского и тюркского корня. Бывали, конечно, и лютые войны и междоусобия, но любимым славянским богом был Лад, согласие, гармония, тот «порядок», ради которого наши предки сами приглашали завоевателей. Порядка не было, но потому, может быть, и не было, что жила слишком живая потребность в нем, потребность пахарей, занятых таинственным и сложным делом самой природы. Если для военных людей раздор – естественное состояние, то для пахарей всего важнее лад, какой ни на есть, но прочный порядок. Потребность мира делала славян уступчивыми, терпимыми, благодушными и менее чувствительными к нарушению их народных прав, чем соседи.
В дни юбилея нашего европеизма полезно было бы опровергнуть две лжи, связанные с именем великого царя. Первая ложь – будто Петру приходилось много бороться с нашею национальною нетерпимостью и будто народ наш более, чем какой-нибудь, требовал исключительного насилия над собой, «петровской дубины». Обе эти лжи выдуманы иностранцами, совершенно чуждыми русского духа, и затем по простодушию нашему были поддержаны самими русскими, вроде Посошкова. Особенно горячо поддерживают миф о нашей исключительности русские инородцы в видах их особой политики. На самом деле это просто клевета и на русский народ, и на Петра.
Что реформы Петра были «крутые», это объясняется просто темпераментом царя и восторжествовавшим влиянием иностранцев. На самом деле в народе вовсе не было того сопротивления, которое оправдывало бы «дубину». Была партия, стоявшая за старину, но вовсе не фанатическая и не сильная. Эта партия еще при преемниках Петра не способна была отстоять то, что в этих случаях всего дороже: внешнего быта. Бунты стрельцов и дворцовые интриги были и до Петра. Задолго до Петра в Москву не только допускались, но и приглашались иностранцы: нанимались ученые, художники, техники, офицеры, солдаты. О национальной замкнутости в Москве говорить не приходится. И до Петра высший класс подражал татарам, полякам, немцам. Поразительно не противодействие, а напротив, удивительное содействие царю, не упорство в отстаивании древнего быта, а скорее легкость, с какою мы изменили ему. Народ наш был всегда полон жажды лучшего, и, поверив, что свет с Запада, он быстро и искренне повернулся к нему. Великие насилия были вызваны поспешностью реформ, военным временем и тем пренебрежением к народу русскому, которым до сих пор грешат иностранцы. «Русский свинья, от него иначе, как с палкой, не добьешься толку» – это взгляд немецкий, объясняемый отчасти невежеством, отчасти глупостью людей, попавших в чуждую им обстановку. Та же палка, тот же «бронированный кулак» проповедуется немцами и для других, вовсе не глупых стран, вроде Китая. Возможно, что немцы, воспитатели Петра, подсказали это грубое заблуждение и Петру или по крайней мере поддержали его. Ведь и с тех пор немцы упорно в течение двух веков поддерживают в наших высших классах то же гибельное неуважение к народу и недоверие его к себе. Но пора нам освобождаться от этого вредного внушения. «Дубина» Петра Великого была сродни дубине великого Курфюрста или сапогу Карла XII – дубина сама по себе историческая мелочь: она возможна у каждого народа, и ни у одного не может составлять государственного принципа. Если находятся ограниченные русские люди, которые, вторя насмешке немцев, преклоняются пред «дубинкой», то этим лишь доказывают собственное ничтожество; они отнюдь не вправе говорить за народ русский. Мы ничем достойнее не можем почтить память преобразователя, как снятием ореола с той его черты, которая вовсе не была его индивидуальною и характерною чертою. Не пренебрегая никакими средствами и в том числе страхом, доведенным до ужаса, Петр выше «страха» ставил «совесть» и ввел это предпочтение совести в самую формулу государственной власти, как гласит первая статья наших законов. Голое насилие отвергнуто Петром и в вопросах веры, и в практике внутреннего управления, где он коллегиальное согласие поставил выше единоличного произвола. Учреждением «правительствующих» коллегий, заменяющих «собственную персону» царя, Петр доказал, до какой широты он распространял начало совета и соглашения.
Почти все царствование Петра наполняют войны. Война сама по себе есть насилие: мудрено ли, что насилие вторгалось и в области, где ему совсем не место? Нельзя с именем Петра связывать начала, общие тогда всей Европе, нельзя эти начала считать за историческое завещание. То, что выдвинуло Петра из ряда московских самодержцев, это отнюдь не жестокость и вовсе не дубина, которою он колотил друзей. Выдвигает его на недоступную высоту глубокое сознание исторических нужд России, неукротимая отвага в достижении грандиозных замыслов, вера в общечеловеческий разум и вера в способность своего народа быть великим. «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник», Петр ощущал в себе львиную душу молодого народа, стремящегося, вышедшего на поиски счастья. Не чуждый веселья самого простонародного, Петр был чужд изнеженности и ненужной роскоши, и прежде всего был чужд лени. Величие Петра в том, что, как ни один монарх в истории, он воплотил в себе идеал народный: идеал не царя только, а и просто человека. Глядя на Петра, хочется сказать: вот каким должен бы быть каждый крестьянин – таким же сильным, деятельным, предприимчивым, неутомимым, таким же простым во вкусах и верным в исполнении долга, таким же переимчивым и жадным в просвещении. Петр был до того русским, что вместил в себе кое-какие и пороки народные, но они, как в хорошем крестьянине, исчезают в блеске его достоинств, и просто некстати говорить о пороках в эти дни. Из столь замечательной души следует взять только то, что было в ней великого, и на этом нужно сосредоточить все внимание. Самое великое в Петре было, как ни странно это звучит, его смирение, его искреннее сознание невежества, которым была окутана Россия. Искренним смирением отличаются лишь исключительные умы. Петр решительнее всех предшественников признал вселенское знание выше национального, опыт общечеловеческий выше местного. Петр стал выше той глупой гордости, которая боится унизить себя принятием чужой истины. Петр искал правды и брал ее всюду, где находил. Не насилие и не дубина, а знание как секрет согласия – вот истинный девиз Петра. Он и сам учился, и всех тянул к науке, вот его движущее начало, вот настоящее, часто забываемое его завещание. Дубинка – мелочь, это средство отчаянное и случайное, и если бы сам Петр всерьез верил в дубинку, зачем тогда была бы и наука? Зачем просвещение, которое он спешил насаждать? Зачем этот восторг перед мастерством Запада и страстная мечта добиться во всем независимости свободы от иностранцев?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: