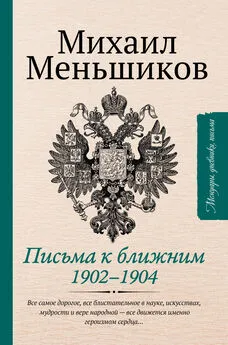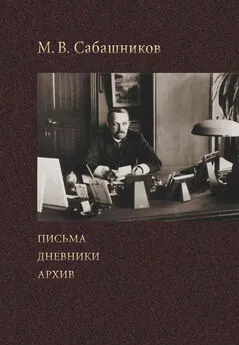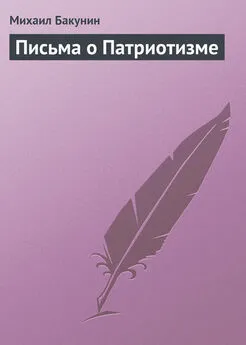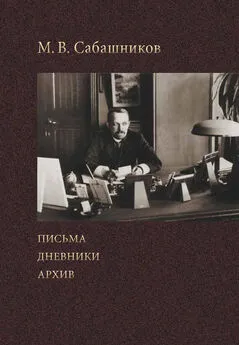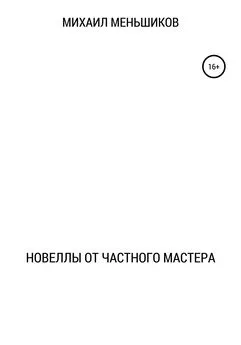Михаил Меньшиков - Письма к ближним
- Название:Письма к ближним
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-145459-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Меньшиков - Письма к ближним краткое содержание
Финансовая политика России, катастрофа употребления спиртного в стране, учеба в земских школах, университетах, двухсотлетие Санкт-Петербурга, государственное страхование, благотворительность, русская деревня, аристократия и народ, Русско-японская война – темы, которые раскрывал М.О. Меньшиков. А еще он писал о своих известных современниках – Л.Н. Толстом, Д.И. Менделееве, В.В. Верещагине, А.П. Чехове и многих других.
Искусный и самобытный голос автора для его читателей был тем незаменимым компасом, который делал их жизнь осмысленной, отвечая на жизненные вопросы, что волновали общество.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Письма к ближним - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Власть тьмы
Говорят: сил мало. Вздор. Сил всегда несравненно больше, чем их нужно для защиты жизни, но они спят или душат друг друга. Роль всякого союза – разбудить и направить народную энергию к полезной цели. «Сотня подвижниц» – конечно, капля в море, хотя, подобно капле розового масла, – иногда делающая благоуханною массу жидкости. Сотня подвижниц – это уже две на губернию, но уже одна истинная подвижница на всю Россию была бы огромной силой, и ее пример создавал бы бесчисленные подражания. Но зачем говорить о редких людях подвига? О них можно мечтать, но рассчитывать следует на рядовую армию тружеников и тружениц. Нужны не сотни, а десятки тысяч девушек, женщин и мужчин. И это вовсе не невозможно. Имеем же мы уже около 50 000 народных учителей и учительниц. За небольшое прибавочное вознаграждение многие из них согласились бы в самое тяжелое для детской смертности время – летнее – служить «Союзу». Средства найдутся, поверьте мне, – были бы люди налицо. Неразменным и самым действительным фондом великих дел служит сердце, расположенное что-нибудь сделать для ближних. Про д-ра Бюдэна, основателя Лиги борьбы с детской смертностью на Западе, мне рассказывали такой случай. Он до такой степени надоедал всем с мольбою о помощи Союзу, что получил от одного благотворителя пощечину.
– Вот, мол, вам пожертвование!
– Хорошо, – заметил добрый доктор, – это мне, а что же для бедных?
С такою настойчивостью можно много сделать. Денег в стране больше, чем нужно, и часто брожение их принимает сумасшедший характер. Хоть и неимоверно трудно, но добыть деньги не невозможно. Есть целый класс миллионеров, для которых становится тяжкой задачей, куда направить скопившиеся миллионы. Не все же из богачей черствые эгоисты: для благородных между ними, вроде Карнеджи, пожертвование на благое дело – счастливое событие, лишь бы они были убеждены, что дело действительно благое. Нет сомнения, устройся «Союз» – возникло бы и внимание к нему, и трудно даже предсказать, в какие формы вылилось бы это внимание. Пришло бы на помощь и государство, и земство, и частные лица. А через немного лет негласно и бесшумно в «Союз» вступил бы и сам народ, все эти бабы и девицы, присмотревшиеся к уходу за детьми и их лечению. Что говорить о средствах? Может быть, для того, чтобы отстоять от смерти тот миллион детей, который можно отстоять, – потребовалось бы не больше миллиона рублей, – неужели в стране его не найдется? Поглядите, как дешево и просто борются с детской смертностью, например, в Швеции, приглядитесь к практике этих прелестных обществ «Капли молока»? и т. п.
Противники «Союза» довольно грубо говорят: нужны деньги и только деньги. Какой это вздор, вот это «только». Точно мы не видим, что миллионы и миллиарды непрерывно работают в стране, и вместо того, чтобы народу подниматься, он опускается. Деньги – двигатель, но каждый двигатель может вас толкать и вперед, и назад. Важнее, чем деньги, необходимо уменье обращаться с ними, необходим ясный разум, обуздывающий силу. Народ наш, как замечено было еще Достоевским, нуждается не столько в силе, сколько в правде, и сама материальная нищета его есть следствие весьма тревожного нравственного упадка. В народе, конечно, есть и свежие, энергические элементы – и те даже в самые лютые годы как-то ухитряются одолевать нужду. Но, к несчастью, слишком много в народе пород отмирающих, вялых, дряблых, надломленных, может быть, вековою борьбой с природой и историей. Иной здоровый мужик – «не может работать, да и шабаш». Его не тянет работать, ему противно взяться за топор, за косу. Он проживает все до нитки и голодает, несет последнее в кабак. Иные пьют с остервенением каким-то, как будто хотят выжечь в себе и вытравить какую-то чужую примесь крови. За внешней нищетой в деревне стоит глубокое внутреннее разорение, отвычка к органической, культурной жизни. Деревенская голь – типическое декадентство, перешедшее на быт. Опустившимся мужикам все порядочное противно, хочется только скверного. Отсюда отвратительное отношение к семье, к браку, к жене, к детям. Местами в народе пошел ужасающий разврат, до глубин содомских. Хотя в народе и не говорят о «завитках» и «многоточиях» полового чувства, но половая психопатия здесь та же, что и у иных столичных философов. Местами такие древние святыни культуры, как девственность невест, как верность жен уже не только не встречаются в деревне, но почти не уважаются. Всем известно, что уже малые дети в деревнях пьют водку, но не все знают, насколько малые дети в деревнях подчас развращены и растлены. Не все знают, что есть местности с твердо установившимся обычаем детоубийства. «Власть тьмы» действительно местами власть черной тьмы и хрустящих детских косточек. Бабы деревенские – действительно пакостницы и негодницы. Выше я привел мнение А.Н. Шабановой о том, что главная причина огромной смертности та, что матери отказывают младенцам в материнском молоке. Это ли не упадок народного духа! Возникает уже вопрос о том, чтобы «обязать законом» матерей не красть у детей этой «их собственности». Еврейки и татарки не обкрадывают младенцев, и у тех нет нашей чудовищной смертности.
В прошлом году в «Новом времени» был помещен бытовой леденящий душу рассказ г. Волковича «Но то был сон!». Припомните это развратное местечко Лялино, близ станции железной дороги, по-видимому, недалеко от Петербурга. Тут установились хуже чем языческие нравы. Тут деревенские женщины не стыдятся иметь незаконных детей и всех их поголовно замаривают голодом. Прямо-таки ничего не дают ребенку: ни груди, ни соски, ничего. Припомните это «серое лицо» младенчика, «обтянутый череп и совсем, совсем навыкате глаза» умирающего от голода. Автор рассказа хотел было дать ребенку ложку муки «Нестле», – мать накинулась на него, «вскочила как фурия» и вырвала ребенка из его рук. «„Пес, право пес!“ – истерично зарыдала она»… – и добилась-таки, что ребенок умер. «Всякое воспитание, – говорит г. Волкович, – матери заменили голодною смертью» – для того только, чтобы вольней гулять было с кем попало. Подумайте об этом – ведь это кошмар хуже всех ужасов людоедства, – и к нам – к Петербургу – столь близкий! Что же вы поделаете здесь «только деньгами»? Бабы тут далеко не бедные, – им, видите ли, «гулять хочется».
Нет сомнения, «Союзу борьбы» с детской смертностью придется, кроме лечебной и материальной помощи, вести самую деятельную нравственную пропаганду и даже не только среди этих распутных девок и баб. В рассказе г. Волковича отмечено, как весело уморила голодом четырех своих младенчиков двадцатипятилетняя горничная и как звонко она торгуется с плотником о сосновом кресте – для пятого. «Все под хрестом!» – ухмыляется ражая баба. Это – нравственное помешательство, гадкая мода больше, чем гадкое сердце. Но вот эта фраза – «Все под хрестом!» – намекает на похороны, на присутствие в данной местности священника. Возможно ли допустить, чтобы священник не знал о гнусном обычае в его приходе – морить детей голодом? А если это возможно допустить, то какой это ужас – хоронить пятерых детей подряд, не зная, что они замучены голодной смертью! Знает священник о преступлении, или не знает, – в обоих случаях «Союз борьбы» мог бы открыть батюшке глаза. Деревенский священник в глазах народа материально почти ничто, но если захочет, – он – могущество, он власть, и в данном случае более действительная, чем все прочие. Можно ли по закону, как думает А.Н. Шабанова, обязать бабу кормить ребенка? Как уследить в этом интимном жесте, полном столь высокой прелести, – в жесте кормления – поит ли она молоком или душит? Пусть каждое доказанное смертоубийство карается как смертоубийство, но еще раньше этого священник должен знать всех матерей своего прихода и их отношение к детям. Тут место самому беспощадному обличению и проповеди апостольской со всею строгостью вечного авторитета, представляемого церковью. Забавно в самом деле обращать в христианство чукчей и алеутов, когда у нас под Петербургом, на бойком дачном месте по железной дороге такие нравы! Существуй «Союз борьбы» – он мог бы поднять на ноги всю местную интеллигенцию, печать, духовенство, власти, наконец порядочную часть самого крестьянства, и общими силами это гнуснейшее из бытовых преступлений было бы уничтожено. Гнуснейшее – ибо что такое грех Каина перед этой жизнерадостной матерью, замаривающей голодом новорожденного? «В других местах, – замечает г. Волкович, например, в Воронеже, новорожденного бросают за вал, хорошо зная, что его тотчас съедят свиньи… Топят в отхожих местах, в болотах…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: