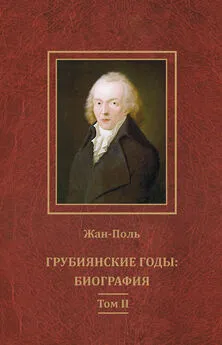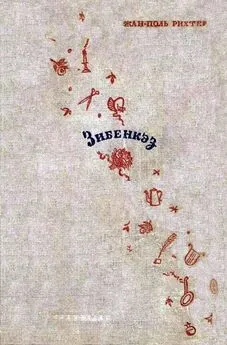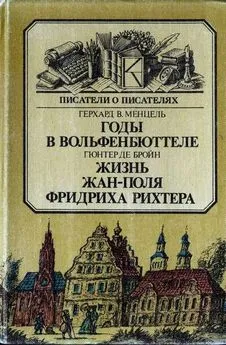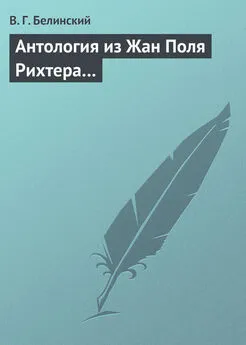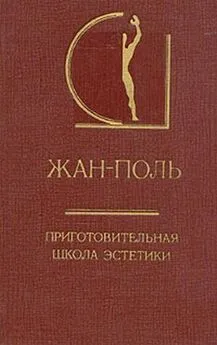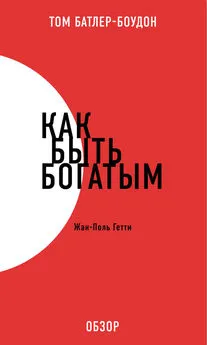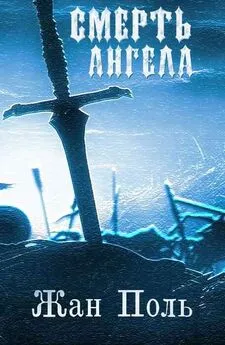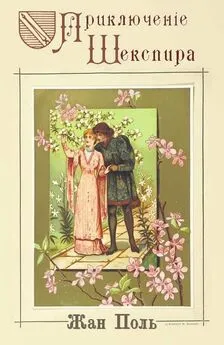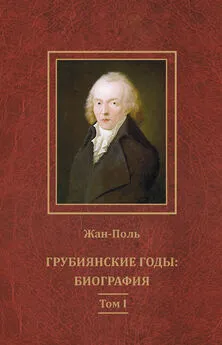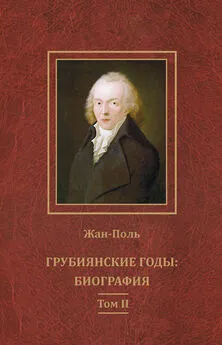Жан-Поль Рихтер - Грубиянские годы: биография. Том II
- Название:Грубиянские годы: биография. Том II
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Отто Райхль
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-3-87667-445-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан-Поль Рихтер - Грубиянские годы: биография. Том II краткое содержание
Жан-Поль влиял и продолжает влиять на творчество современных немецкоязычных писателей (например, Арно Шмидта, который многому научился у него, Райнхарда Йиргля, швейцарца Петера Бикселя).
По мнению Женевьевы Эспань, специалиста по творчеству Жан-Поля, этого писателя нельзя отнести ни к одному из господствующих направлений того времени: ни к позднему Просвещению, ни к Веймарской классике, ни к романтизму. В любом случае не вызывает сомнений близость творчества Жан-Поля к литературному модерну».
Настоящее издание снабжено обширными комментариями, базирующимися на немецких академических изданиях, но в большой мере дополненными переводчиком.
Грубиянские годы: биография. Том II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Читатели могут подразумеваться и в сновидческой главе «Танец личин» – в том ее фрагменте, где Вальт, придя на маскарад, «сначала попал в комнату для распития пунша [ «Яичный пунш» – название романа, который пишут братья – Т. Б.], которую принял за танцзал и куда музыка проникала, как и подобает, издалека, приятно приглушенная. <���…> Когда Вальт храбро выглянул из маски, прижавшись глазами к ее окошкам, он, оглянувшись, не без удивления увидел множество оголенных лиц, то есть фигур с содранной личиной в одной руке и со стаканом в другой. Что все вокруг черпают влагу не то из Источника здоровья, не то из Орденской чаши, он отнес к обычному для маскарада распорядку, тут же потребовал стакан для себя, а вскоре – поскольку человек в костюме адмирала стал для него правофланговым и образцом – еще одну» (с. 613). Ведь в романе Жан-Поля «Титан» (1800–1803) маскарад описывается так (Jean Paul III, S. 68):
– А теперь давайте все вместе двинемся, танцуя, в книгу, на этот свободный бал мира, – я впереди, как танцор-ведущий, за мной читатели, как подпрыгивающие следом-танцоры, – чтобы мы под звучащими крестильными и погребальными колокольчиками на китайской пагоде Мироздания – под аккомпанемент певческой школы муз и гитары Феба наверху – бодро танцевали от тома к тому – от цикла к циклу – от одного отступления к другому – от одного разделяющего мысли тире до следующего – пока не придет конец либо этому произведению, либо мастеру, создавшему его, либо каждому из нас!
«Симультанный храм» (Пантеон) и «танец личин»
Рассмотрим пристальнее конец романа.
«Пантеон» впервые упоминается в главе 60, «Катание на коньках» (с. 583; курсив мой. – Т. Б.):
Наконец в парке сгустились светлые декабрьские сумерки: там, где уже метлой очистили от снега длинное озеро (собственно, узкий пруд) и где позже, когда луна резко прочертила на белом фоне каждую тонкую древесную тень, три первопричины всего этого не только исчезли в ближайшей ротонде – красивом домике из коры , удивительно напоминавшем, благодаря отверстию в крыше, римский Пантеон, – но и почти тотчас вывели оттуда друг друга на заледеневшее озеро, потому что внутри все трое просто надели коньки: В и на, и Рафаэла, и Энгельберта.
Странное обилие странных подробностей… Речь – по сюжету – идет о том, что В и на просит Вальта сочинить слова песни на день рождения ее подруги Рафаэлы (дочери коммерсанта Нойпетера), а Вульта – сочинить и исполнить на флейте сопутствующую мелодию. Но для этого Вальт впервые должен попытаться облечь свои фантазии в какую-то форму (с. 582):
Вальт теперь должен был заключить воздушные сны в жесткую форму бодрствования, то есть в форму не только новых метрических, но и музыкальных соотношений… <���…> Получается, что даже дух духа – стихотворение – должен спуститься со своего свободного неба и войти в какое-то земное тело, в тесную пазуху для крыльев.
Это похоже на испытание: пригоден ли Вальт к поэтическому творчеству.
Вальту удастся написать красивую песню, но он будет лишь скромным сторонним свидетелем тому, как Вина и Вальт исполнят ее для спящей Рафаэлы (с. 602; курсив мой. – Т. Б.):
…он зашел в расположенный неподалеку домик из коры , где не видел ничего, кроме ночной небесной синевы у себя над головой и луны, светящей в отверстие крышщ и где ничего не слышал, не имел в себе ничего, кроме сладостных слов, слетающих с далеких нежных губ. Он видел, как за этой корой распахивается мерцающая глухомань неба , и ликовал, ибо Новый год, в украшенном звездами утреннем одеянии, предстал перед ним столь величественным и щедрым.
Опять странное указание на то, что домик сделан из коры и имеет отверстие в крыше…
Разгадку этих мучительных для переводчика подробностей я нашла в одном тексте Жан-Поля (включенном мною в Приложение): «О смерти после смерти, или День рождения» (текст был опубликован отдельно, в 1802 году, в журнале, и лишь позднее вошел, как приложение, в роман «Путешествие доктора Катценбергера на воды»). В этом серьезном тексте, где речь идет о проблеме посмертного существования и о статусе поэтических миров, прямо говорится: «наш телесный дом из коры». И далее (с. 774–775; курсив мой. – Т. Б.):
«<���…> Наше бедное, покрытое ранами сердце – как бы часто оно ни закрывалось со всех сторон, все же на нем остается открытой одна врожденная рана, которая затянется только в иной стихии бытия, как у еще не рожденного детского сердечка одинаковое для всех таких сердечек отверстие закроется только тогда, когда дитя вдохнет более легкую жизнь. Поэтому и у нас, как у цветов, верхняя сторона листа, сколько бы ее ни поворачивали к земле, всякий раз вновь обращается к небу».
«Врожденная рана!» – со вздохом повторил юноша.
«Наша рана – или наше небо – открыта, – сказал я возбужденно, – это и каламбур, и нет.
И та же мысль, как мы помним, была выражена в «Предуведомителе» (предисловии к «Незримой ложе»), где об истинных «судьях искусства» сказано (с. 759):
Я бы поздравил их с присущим им вкусом: что он, как и вкус гения, похож на вкус космополита и не воскуряет благовония какой-то одной красоте – скажем, утонченности, силе, остроумию, – но что он в своем симультанном храме и Пантеоне имеет алтари и свечи для удивительнейших святых, для Клопштока и Кребийона и Платона и Свифта…<���…> Чтобы человек мог увидеть определенные красоты, как и определенные истины – мы, смертные, все еще воспринимаем то и другое двояко, – его сердце должно быть в такой же мере расширено и расчищено, что и голова….
Эта мысль о «врожденной ране» – настолько сильная, что ее подхватывает в своей поэзии, уже в XX веке, Пауль Целан (Пауль Целая , с. 203):
Стоять – в тени от следа
раны в воздухе.
Ни-за-кого-стоять, ни-за-что,
неопознанно,
за тебя лишь.
Со всем, что вместимо там,
и помимо слова.
Когда В и на, продолжая петь, заходит в «ротонду из коры», Вальт переживает подлинную эпифанию (с. 602–603; курсив мой. – Т. Б.):
Поскольку Вальт тоже не смел ничего сказать, он, как и она, улыбнулся – очень широко, растаяв перед ней в любви и блаженстве. Когда же она пропела красивую мелодичную строчку – «Видишь ли ты во сне, кто любит тебя?» – и так близко к его груди воспроизвела ее потаенные звуки: он опустился на колени, сам не зная, для молитвы или для любви, и поднял глаза на Вину, которую, словно спустившуюся с горних высей новую Мадонну, луна облачила в отблески неба. Она кротко возложила правую руку на его кудрявую голову; он поднял обе руки и привлек ладонь Вины к своему лбу; это соприкосновение расплавило его кроткий дух в огне радости, ведь и хрупкий цветок в роскошную летнюю ночь разбрасывает искры, – слезы радости, вздохи радости, звезды и звуки, небо и земля растеклись друг в друга, образовав одно эфирное море; он, сам не зная как, прижал ее левую руку к своему колотящемуся сердцу, и близкое пение казалось ему, словно он впал в беспамятство , доносящимся из далекого далека.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: