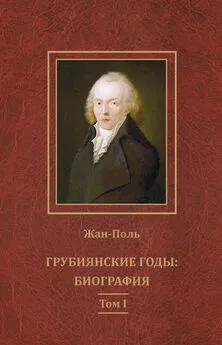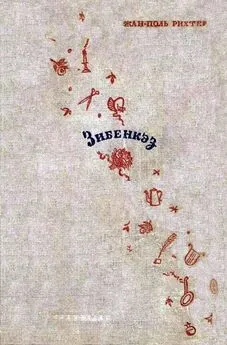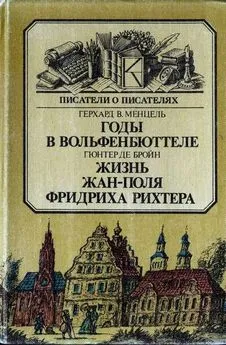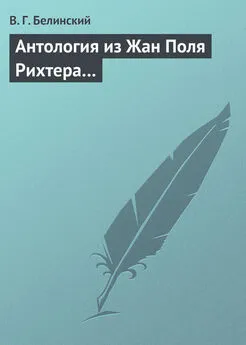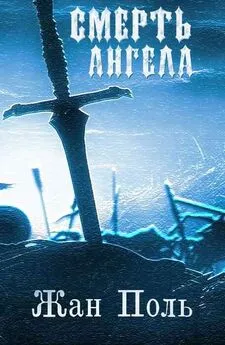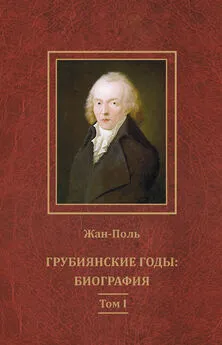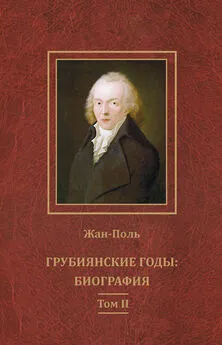Жан-Поль Рихтер - Грубиянские годы: биография. Том I
- Название:Грубиянские годы: биография. Том I
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Отто Райхль
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-3-87667-445-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан-Поль Рихтер - Грубиянские годы: биография. Том I краткое содержание
Жан-Поль влиял и продолжает влиять на творчество современных немецкоязычных писателей (например, Арно Шмидта, который многому научился у него, Райнхарда Йиргля, швейцарца Петера Бикселя).
По мнению Женевьевы Эспань, специалиста по творчеству Жан-Поля, этого писателя нельзя отнести ни к одному из господствующих направлений того времени: ни к позднему Просвещению, ни к Веймарской классике, ни к романтизму. В любом случае не вызывает сомнений близость творчества Жан-Поля к литературному модерну».
Настоящее издание снабжено обширными комментариями, базирующимися на немецких академических изданиях, но в большой мере дополненными переводчиком.
Грубиянские годы: биография. Том I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Правда, Вальт, попадаются и другие сердца, которые воспринимают музыку более деликатно-своекорыстным манером. Но у меня бывают часы, когда я могу совершенно потерять контроль над собой из-за сумасбродной парочки влюбленных, которые, столкнувшись с чем-то возвышенным в поэзии, или музыке, или природе, тотчас готовы поверить, что оно скроено по их потребностям, приспособлено к их мимолетным жалким переживаниям, которые им же самим через год, коль доведется пережить кое-что посильнее, покажутся жалкими; как будто художник еще раньше снял с них мерку, а теперь возвращается к заказчикам, перекинув через руку расшитую коронационную мантию и покрывало Исиды. Один из компаньонов Нойпетера при таких оказиях смотрит по ночам на небо, на Млечный путь, и говорит своей купчихе: «Любезная, прими этот звездный круг как простое кольцо, данное мною в зарок, и как брачный пояс нашего небесного союза!»
– Ах, брат, – ответствовал Вальт, – твои суждения слишком жестки: что может человек сделать со своим чувством или против него, неважно, относится ли оно к искусству или к великой природе? И где искусство и природа, сколь бы величественны они ни были, находят себе пристанище, если не в отдельном человеке? Потому он и хочет их присвоить, как если бы они существовали для него одного. Солнце восходит одновременно над полями сражений, наполненными героями… над садом новобрачных… над ложем умирающего, в ту же минуту, в которую – перед другими зрителями – оно заходит; и все же всякий вправе смотреть на него и притягивать к себе, как если бы оно освещало только его театральные подмостки, присоединялось лишь к его горю или к его радости; и я хочу сказать, что точно так же человек призывает Бога, считая Его своим, хоть перед Ним и молится вся Вселенная. А иначе нам было бы плохо, потому что все мы – по отдельности.
– Хорошо, солнце все вы можете забрать себе, – сказал Вульт, – но райская река искусства не будет лить воду на ваши мельницы. Если ты подмешиваешь к музыке слезы и разные настроения: значит, ты видишь в ней их служанку, а не создательницу. Любая жалкая мелодия, способная потрясти тебя в день смерти любимого человека, должна тогда считаться хорошей. И что это за впечатление от искусства, если оно, подобно крапивной лихорадке, тотчас исчезнет, как только ты вновь глотнешь холодного воздуха? Музыка из всех искусств – самое чисто-человечное, самое всеобщее. —
– Именно потому в нее входит так много особенного, – ответил Вальт. – Человек все же невольно привносит в восприятие музыки какое-то настроение; так почему бы – не самое благотворное, самое нежное, раз уж сердце является для нее подлинной резонансной декой? – Однако твой урок я не забуду: слушать следует «вперед и назад».
– А как вообще у тебя дела? – спросил с недовольным видом Вульт. – Я-то останусь при своем: подмешивание действительности к искусству, ради пущего эффекта, напоминает некоторые росписи потолков, к которым, чтобы создать видимость перспективы, приклеивают подлинные фигуры из гипса. Но ты рассказывай!
Вальт – который объяснял недовольство Вульта собственным неискусным искусством слушания и над которым, помимо того, любовь распростерла небесный балдахин – кротко и охотно рассказал, как усердно, вплоть до недавнего времени, он разыскивал графа, как вдруг оказался сидящим напротив него (за столом у Нойпетера, чей обед он тоже описал); как заговорил с ним и обнаружил, что граф – и гордой изощренностью ума, и тем, что способен философски воспарить над всякой теснотой и узостью, – чрезвычайно похож на флейтиста.
– Тебе нравятся дублеты, но в данном случае, друг, ничего такого поистине нет; однако продолжай! – проворчал Вульт, которому не нравилось, как не нравится женщинам, когда его хвалят за сходство с другими.
И тут Вальт продемонстрировал конверт с письмом В и ны – как входной билет, обеспечивающий допуск в комнату Клотара и к его ушам.
– Да-да, всё это вполне естественно – в целом, – начал Вульт, – но только, черт возьми, не называй дамами провинциалок или мещанок наподобие барышень Нойпетер; в больших городах, при дворе: там дамы действительно имеются, а в Хаслау – нет. Эти твои бесовские восторги! Пусть меня повесят, если ты готов отказать в наличии ума больше чем пяти барышням во всем мире: пяти неразумным девам из Нового Завета. Что же тогда ты скажешь о женской добродетели самых привлекательных существ: пяти мудрых дев, записных скромниц, пеленальщиц, баронесс и примадонн? Впрочем, я уже знаю ответ.
– Ну, я не постесняюсь, – ответил нотариус, – признаться по крайней мере тебе, моему кровному брату, что для меня все еще немыслимо, чтобы благородно одетая красивая женщина могла забыться и предаться греху; другое дело – крестьянка. Бог знает, насколько в своей сокровенной сути все женщины святы и нежны; да и кто захотел бы это узнать? Но одно я знаю: своею кровью я пожертвовал бы ради любой из них.
Тут флейтист, будто одержимый изумлением, начал подпрыгивать прямо в комнате, молотить руками, как мотовило, кивать головой и выкрикивать вновь и вновь: «Благородно одетая!» Остается пожелать, чтобы читательницы если и не оправдали, то хотя бы извинили его неприличное изумление, задумавшись о щекотливых положениях, в которые он наверняка попадал во время своих дальних путешествий: ведь, как уже сообщалось, мало найдется больших городов и высших сословий, перед которыми он не выступал бы как признанный мастер игры на флейте. Если учесть все это, его поведение предстанет в более благоприятном свете.
Вальт был очень обижен таким мимическим возражением:
– Ты хотя бы говори! – сказал он. – Этим ты меня не опровергнешь.
Но Вульт возразил ему равнодушнейшим тоном:
– De gustibus поп… и так далее. Поговорим о более приятном! Не выразился ли ты прежде примерно так, что барышни Нойпетер на самом деле считают себя дурнушками и что ты проявил к ним сострадание?
– Тем лучше, – ответил Вальт, – если теперь они поверят в свою красоту. Всем девушкам я такое прощаю, потому что они видят себя только в зеркале, причем, как ты хорошо знаешь из катоптрики, видят с расстояния, увеличенного вдвое по сравнению с тем, с какого их видит посторонний; а всякая отдаленность объекта созерцания, в том числе и оптическая, делает его красивее.
– Похоже, что так, – с удивлением согласился Вульт. – Но я, забавы ради, хочу представить тебе хотя бы только этих трех женщин, поскольку мне довелось познакомиться с ними в долине судачащих розочек. Старая Энгельберта (ах нет, это имя дочери) – мать, в общем, еще более или менее ничего; ее сердце – просиженное дедовское кресло, и, к слову, от этого двустворчатого моллюска она унаследовала не только душу, но и жемчуга. Правда, окажись агент не столь состоятельным, она, в противоположность австрийским пехотинцам, которые во время войны должны изготавливать из холщовых кителей мешки для хлеба [18] Устав австрийской армии 1785 г., с. 248. – Примеч. Жан-Поля .
, вероятно, перекроила бы его хлебный мешок, чтобы справить себе яркое обмундирование. – Так вот, Энгельберта, та любит пошутить – многие называют такие шутки очернительством – как гарнизонные солдаты в плохую погоду, она постоянно предпринимает вылазки, хотя ее-то никто не осаждает, – она, как хомяк, обороняется от любого мужчины на коне, и я бы мог, как хомяка, утащить ее за собой на палке, в которую она вцепится зубами. – Рафаэла… она чувствительная, говоришь ты; «но все же не более, чем мой ноготь или моя пятка?» – спрошу я. Она хочет, конечно (и я это признаю), воспользовавшись сентиментальной леской, сплетенной из локонов и любви и привязанной к гибкому удилищу ее поэтичного цветочного стебля, вытащить из моря красивого весомого кита, иначе именуемого супругом. На ее берегу, у ее ног шлепает хвостом маленький скользкий эльзасец Флитте, который охотно обитал бы (и видел бы себя) в качестве золотой рыбки в стоящей на столе вазе – рыбки, поедающей хлебные крошки из прекраснейших рук. Другие… Но к чему продолжать? Во всем описанном тобою застолье ничто не вызывает у меня симпатии, кроме южного… вина. Грех, когда его выпивает кто-то другой, нежели остроумец. Грех против святого духа вина, когда его вынуждают проходить через грузовые желудки заурядных людей.
Интервал:
Закладка: