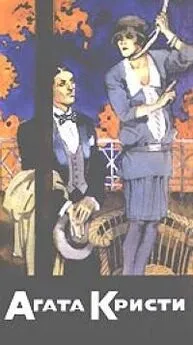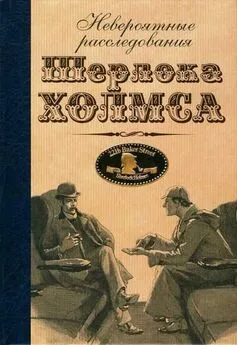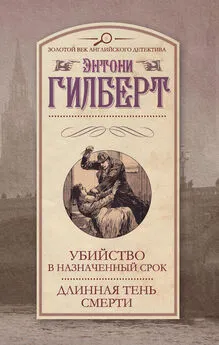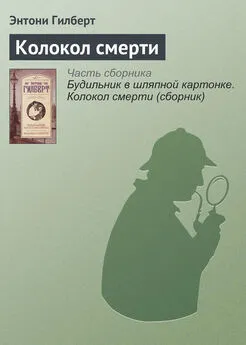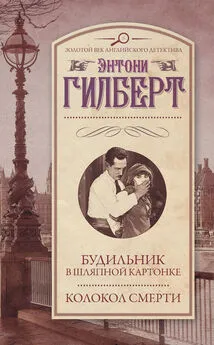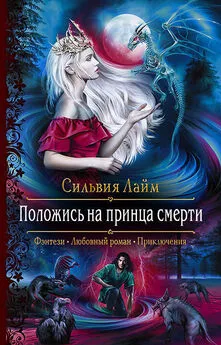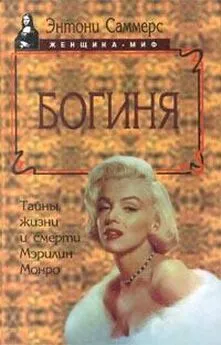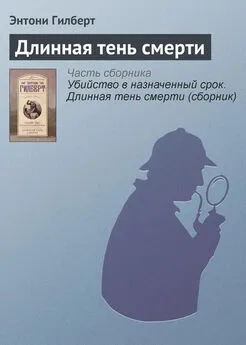Сильвия Энтони - Открытие смерти в детстве и позднее
- Название:Открытие смерти в детстве и позднее
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сильвия Энтони - Открытие смерти в детстве и позднее краткое содержание
Первоначальная версия книги вышла в свет еще в 1940 г. и с тех пор неоднократно переиздавалась в Западной Европе и США, по сей день оставаясь широко востребованной практикующими психологами, психиатрами и социологами многих стран. Настоящее издание является пересмотренным и увеличенным автором и основано на ее дальнейшем практическом опыте. С. Энтони исследует процесс детского восприятия смерти, анализируя, как смерть фигурирует в детских играх, сновидениях, раздумьях, и проводит многочисленные исторические и психофизические параллели, отмечая сходство реакции современных детей на смерть со старинными и даже доисторическими ритуалами.
На русском языке публикуется впервые.
Перевод: Татьяна Драбкина
Открытие смерти в детстве и позднее - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так что в этом отношении Джейн была обычным ребенком. Необычной была быстрота, с которой она достигла следующей стадии концептуального развития, поскольку она тут же спросила: «Я тоже умру, все умирают?» Именно утвердительный ответ на эти вопросы вызвал самую сильную реакцию, горькие рыдания. Ход мысли нормальный, но обычно он занимает гораздо более долгое время.
Нам не известно, проходила ли Джейн в своем развитии тревоги о смерти стадию, которую переживают многие дети. Важность рта в перцептивной активности младенца очевидна любому наблюдателю. В психоанализе есть теория оральной фазы психического развития. Завершение «чистой» оральной фазы, видимо, приходится на возраст примерно 2 года, к которому ребенок в достаточной мере овладевает двигательными и хватательными навыками. Таким образом, расцвет оральной фазы для большинства детей остается позади к тому моменту, когда они начинают формировать концепцию смерти. Тем не менее, у многих детей незрелые концепции смерти принимают форму оральной фантазии. Клиффорд Сали (3 г. 2 м.) воображал мертвую птицу на дереве, которую «змея съела, а потом выплюнула обратно» [247] . [ПИ 36]. Патриция К. рассказала историю о ребенке, которого мать потеряла, потому что «ее проглотила большая рыба». Оральных фантазий о смерти, которая на самом деле не смерть, полны волшебные сказки: бабушку Красной Шапочки съел волк, но позже она в целости выбралась из волчьего живота; Гензель и Гретель съедают часть дома ведьмы, она приветствует их внутри, но при этом намеревается приготовить и съесть их. Фрейд говорит, что каннибализм на оральной стадии имеет сексуальную цель, и Мелани Кляйн развила эту тему. Оральная смерть не воспринимается как окончательная. Проглатывание составляет этап фантазийного жизненного цикла, следующая фаза которого – рождение, или выплевывание, или извержение со рвотой, или род кесарева сечения, какое было произведено волку, съевшему бабушку. Смерть как финальный процесс не играет здесь никакой роли, отсутствует как понятие.
То, что Джейн (насколько мы знаем) не прошла через стадию оральной концептуализации смерти, не означает аномалию, поскольку нормальные дети в этом отношении очень различаются. Еще одна фантазия о человеческой судьбе, также, по-видимому, свободная от тревоги и также необязательно присутствующая, основана на идее, что по мере того, как ребенок становится больше, родитель становится меньше, пока в конце концов они не поменяются размерами и функциями. Ричард (3 г. 11 м.), когда м. раздевала его для купания, сказал: когда он был мужчиной, она была маленьким мальчиком или девочкой, и он (Р.) купал ее и укладывал в постель. [ДЗ 39].
Сали приводит несколько сходных примеров [248] . Эрнест Джонс говорит об этой вере в обращение ролей ребенка и родителя в эссе, озаглавленном «Значение дедушки» [249] , как об одном из источников веры в реинкарнацию, соединенном с инцестуозными желаниями и служащем выражению враждебности по отношению к родителям. Я сомневаюсь, что интерпретации д-ром Джонсом психологических процессов, лежащих в основе этой фантазии, валидны для всех ее форм. В случаях Ричарда и детей, которых приводит в качестве примеров Сали, воображаемые функции ребенка в перевернутой ситуации – женские, а не мужские, будь то родитель или родитель родителя. Что касается реинкарнации, – известно, что Ричарду эту идея не нравилась. Его познакомил с ней старший брат, для которого она была вполне знакомой и приемлемой.
По мере того, как ребенок взрослеет, его сепарационная тревога принимает рациональную или рационализированную форму. Соня Расмуссен, видимо, страдала от тревоги по поводу потери родителей как кормильцев, ответом на которую явилось предложенное ею счастливое решение: «Если бы у меня не было мамы и если бы у меня не было папы, думаю, какая-нибудь одна или другая леди дала бы мне шесть пенсов» [250] . [ПИ 37]. Психологические защитные операции могут ставить тревогу под контроль, но совершенно не обязательно устраняют ее. Два года спустя у Сони и ее сестры была беседа с матерью, начатая старшей сестрой, которая сказала: «Как люди любят своих отцов и матерей! Ты не должна умирать, пока я не вырасту!» Соня отозвалась: «Конечно, я буду с тобой. Ты не должна умирать, пока я не умру» [251] . [ПИ 38]. Ее защита от тревоги о смерти как о сепарации от матери заключалась в отрицании этой сепарации, выразившемся в решении, что они должны быть похоронены вместе.
Идея совместных похорон – разумеется, очень распространенная фантазия, да и распространенная практика. У нас есть две домашних записи на эту тему:
[ДЗ 40] Джуди (7 л. 2 м.), когда мать ее матери была серьезно больна, стала бояться за собственную мать, а затем начала думать о собственной смерти: «В следующем году мне будет восемь, но я могу умереть до своего дня рождения; я могу умереть до Рождества и не получить никаких подарков; я могу умереть в следующем месяце – или на следующей неделе – или в следующую минуту, но я не хочу. Я хочу подождать и умереть тогда, когда ты и папа умрете. Так хорошо было бы умереть всем вместе!»
[ДЗ 41] Бен (7 л. 2 м.), в маминой кровати, в течение минуты или двух перед завтраком, говоря о кори, заявил радостно: «Я бы хотел умереть». М.: «Почему?» Б.: «Потому что я бы хотел быть в той же могиле, что ты».
По мнению психоаналитика, в бессознательном могила почти никогда не символизирует смерть [252] ; Платон писал, что материнская функция земли имеет отношение не только к браку и рождению, но и к смерти [253] . Бове [254] цитирует Пьера Лоти (Pierre Loti): «Моя мать была единственным человеком в мире, относительно которого я не испытывал страха, что смерть разлучит нас навсегда» [ПИ 39]. Американский студент-медик, проходя тест, исследующий реакции на утрату, дал следующий ответ:
[ПИ 40] Когда я был маленьким, я ужасно боялся смерти, с тех самых пор, как узнал о ней. Я говорил себе, что буду исключением из общего правила. Я и потом не свыкся с этой идеей, хотя разрезал массу трупов. Но знаете, когда я видел, как мою мать прятали в могилу, я не боялся смерти, ни капельки. Я был вполне готов свернуться там внизу рядом с ней, и с тех пор у меня нет никакого страха смерти. Помню, я тогда заметил, что могила не очень-то глубокая, и это вроде заставило меня поверить. Но все равно, когда гроб опускали в могилу, я хотел заорать: «Остановитесь!» [255] .
Во всех этих случаях тревога, безусловно, связана со смертью как сепарацией от любимого объекта, и защита приняла форму надежды или веры в соединение в смерти; более того, бессознательно, – в единение более близкое, чем было возможно в жизни. Тема единения в смерти знакома из литературы: Антигона и Гемон, Ромео и Джульетта, а также истинные любовники из бесчисленных баллад соединяются в могиле. Возможно, в истории человечества концепция Земли как богини-матери явилась и причиной, и следствием практики похорон.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: